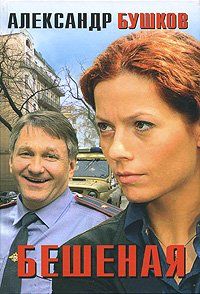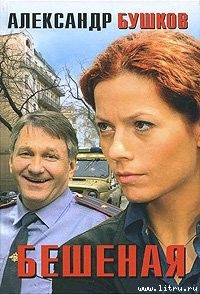Джек Керуак - Видения Коди
– покуда Мелвилл творил мрачную матерью Батареи, Рассветные Мальчики (объездчики реки, плотовые бандиты, сращиватели экипажей, до сих пор топорующие с гор) – Хорошенький Херман, Абиссинский Царь Мутовчатых Оттисков, Ассирийская деловая борода, Ткач Сети, Альбатрос, Навоз Альбатроса, Утишитель Волн, Рапсод Рангоута, Сиделец Звезд, Творец Искр, Мыслитель Кормил, Рельсов, Бутылей, Ванн, Скрипов и Съеживаний Саванных Снастей; Моряк, Гребец, Рулевой, Китобой, Китобой, Китобой… наблюдатель скальных образований в Беркширах, мечтатель о Пьере…. О старый Торо, отшельник Чащоб, Дух Утренней Дымки в Тростниковых Полях, Преследователь Змеистых Лунносветов, Снежных Полночей, Лесов Зимою, Рощиц на Майском Рассвете, Октябрьского Ржавелого Винограда, Бушельной Корзины Яблок, Зеленых, Зеленых Паданцев, Буреющих в Мокрой Траве Утра; дамба, Бобровый Ручей, Внезапный Фабричный Краситель, чистый Снежный Ручей в Верхней Земле, Лощина Цветов, Теплый Запах Цветистых Полей в Августе, Гомер и Щепа, Коран и Топор, Жаркая Щепоть Кузнечиков, Сено, Жаркий Валун, Дуновенье Сельского Мира, Песчаная Дорога, Стена Камня, Снег, Звезда, Сияющая в Блеске Снега в Марте, Амбарные Ворота Хлопают На Все Заснеженные Леса и Поля, Луна на Глазури Сосновой Шишки, Паутина средь Лета, Воды Лакучие, Ночь, Ветер в Ночи и Губы Льнщие в Полях Ночи, Горб Луга в Ночи, Млечный Горб Любовников в Траве, Меня и Ее, Горбатящих Друг Друга в Траве, Под Яблоней, под Облаками, Мчащими Наперегонки Поверх Луны, в Широком Мире, Влажная Звезда Ее Пизды, Вселенная Стаивающая По Сторонам Неба, Теплое от Этого Чувство, Влажная Звезда Меж ее Ляжек, Теплое Там Тяготенье, Деянье в Траве, Трам-Там-Там Ног, Жаркие Одежды, Жаждущие Комары, Слезы, Содроганья, Укусы, Языканья, и Изгибанья, Стенанье, Движенье, Качанье, Биенье, Кончанье, Второе Пришествие, Третье —
У старой пустоты в нем по-прежнему это есть.
В 1949 году это-то мы и сделали, жена его вышвырнула, как только я туда приехал, и лишь потому, что это был апогический миг, и мы кеглями покатили обратно на Восточное Побережье в поездке, что была столь неистова и так чокнута, что у нее были начало и конец, началась в угаре дичайшего возбужденья, великолепный джаз, быстрая езда, женщины, аварии, аресты, кино на всю ночь, все завершилось, все сошло на нет во тьме Лонг-Айленда, где мы прошли несколько кварталов вокруг моего дома лишь потому, что так привыкли двигаться, передвинувшись на три тысячи миль так быстро и все время разговаривая. Началось во Фриско – с тем видом, что явился из тех источников и от этого старого рыдвана и жизни с его отцом, который, должно быть, улыбался ему вот так вот в темнейшие мгновенья битой удачи – мы отправились в странствие, посвятив этому две ночи джаза.
В то время джаз Фриско был на отпаднейшем своем пике, отчего-то возраст дикого тенориста пронзал насквозь регулярно-курсовые развития бопа, как бы на несколько лет запоздало и на несколько лет слишком рано, и, разумеется, на самом деле чересчур рано, только теперь это поветрие; тогда, до того, как оно стало поветрием, дикие тенористы дули с честным неистовством, потому что никто не ценил или всем было плевать (кроме отдельных хипстеров, что вбегали, вопя) («Давай! Давай! Давай!»)… друзья и хеповые кошаки, а им все равно плевать было, как ни верти, а «публике», посетителям в баре, это нравилось как джаз; но то был не джаз, что они дули, то было неистовое «Оно».
«Что такое ОНО, Коди?» спросил я его в ту ночь.
«Ну, мы все знаем, когда он на него попадет – вот оно! у него оно есть! – слышишь? – видишь, как всех качает? Это больший миг связи, повсюду, от которого его качает; вот это джаз; врубись в него, врубись в нее, врубись в это место; врубись в этих кошаков, это все, что осталось, куда еще можешь ты и пойти, Джек?» То была абсолютная правда. Мы стояли бок о бок, потея и прыгая перед дикими ошляпленными тенористами, что дули от самых верхушек ботинок своих до бурого потолка, работяг с верфей; альты там тоже были, певцы; барабанщики вроде Миляги Коула, смешанного с Максом Роучем, пацан-корнет шестнадцати лет (маленький любимчик негритянской бабули), четкого бопового хепового кошака, который стоял, весь обмякнув со своим рогом и без лацканов, и дул, как Уорделл; но лучше всех работяжьи тенора, кошаки, что работали и вытаскивали рога свои из заклада, и дули, и у них с бабами нелады бывали, они у себя в дудках, казалось, шли натиском, сознательно, говоря разное, много что сказать, разговорчивые рога такие, слова почти можно расслышать, а еще лучше гармонию, тебя вынуждало слушать так, чтобы заполнять пробелы времени мелодией и последствием твоих рук и дыханья и души; и дикие женщины танцевали, потолок ревел, люди вваливались с улицы, от дверей, никакие легавые никого не доставали, потому что было лето, август 1949-го, и Фриско дул, как безумный, роса пала на мускат во внутренних полях Хоакина, деньги текли, ибо Фриско город сезонный, железные дороги катили, на тротуарах стояли ящики дынь, колотого льда, и прохладные внутренние запахи виноградных цистерн; Малый Харлем, Третья и Фолсом, их качало, назаду в смешном переулочке, что, казалось, связан с баром, но не с улицей, десять, двадцать чаеголовых мужчин и женщин подвзрывали и пили винные сподиоди, виски-пиво-и-вино; и мы тоже немного отпили, и бац, напились, равно как и улетели; видели маленького цветного альта в высоком жестком воротничке и квадратном костюме, и выглядел он совсем как квадратный алабамский негритос, стоящий у обочины дороги, покручивая часовую цепочку в Глухомани перед хижиной, где сидит его отец, на крыльце, закинув ногу на стул, нога угроблена полевыми работами, нищетой, десятилетьями недоеда, старостью, обыкновенной смертной старостью, стоя воскресным днем, пацан (в новой серой федоре) глядя, как проезжают машины, мимо, мимо, к городам и вестям о чем-то диком, старый Кейси альтовый городок, старый Фриско тенорный город, старый Детройт баритонный город, старый Нью-Йорк прыгучейший город, Главокружительноптичий Городок, старый Шикаго открытый город, старый Сан-Педро моряцкий город, головомольный прыгучий город, дно города суши, спрыгивательный городок; выглядел он в точности так вот, и невиннее, и голову себе сдувал напрочь в ту ночь; парняга, возвращаясь с работы, вбежал в зал, где был джаз, вопя: «Дуйдуйдуй!» и мы услышали, как он это вопит аж наверху лестницы («Дыра Джексона», после закрытия) и, вероятно, он вопил это аж с самой Маркет-стрит, но тот маленький альт, глаза от Коди не отрываются, ноги шлепают и танцуют мартышкиным скоком, что был совсем как мартышкин скок у Ирвина Гардена, который он, бывало, откалывал на улицах Денвера, Тексаса, Нью-Йорка, идя по следу Коди, а потом бросил, тот маленький альт выдувал один припев за другим, каждый прост, выдувал их две сотни, просто всего лишь блюзовый номер, приговаривал: «Та-картошка-рап, та-картошка-рап», затем «та-картошкала-ди-рап», «та-картошкала-ди-рап», вот так вот, всякий раз повторяя дважды, чтобы подчеркнуть, с простотою пацана, который учится писать в начальной школе с ластиком во рту, или молодого Линколна за лопатой, улыбаясь в собственный рог, совершенно четкий под ливнем неистовств, что лился из его легких и пальцев, говоря Коди: «Та ра та та, Ангел Гавриил на самом деле черный» совсем как с вершины Собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке дует Ангел Гавриил в свою дудку поверх всех крыш Харлема… Головокружительный Гиллеспи в камне.
«Он из тех, кто весь день спит у своей бабушки, – орал Коди, перекрикивая ярость, – он научился играть в дровяном сарае, врубаешься в него? вишь, какой он? он Том Уотсон, вот кто это, Том Уотсон выучился дуть и давать постоянно, и сбрасывать напряги, и совершенно расслаблялся, хоть и не зависал в, или за, любого сорта бичовыми оттягами, осознавая, к тому ж, как, например, вон что я говорю, но, нет, постой, Джек и послушай меня, я сейчас выложу тебе всю правду – но послушай ты его, его послушай. Оно, помнишь? Оно! Оно! У него оно есть, вишь? Вот что оно такое – в смысле, или я в смысле объяснить, раньше, вишь, и все оно, и все, Да!» покуда маленький альт вставал вместе с оркестриком, что сидел за ним – три инструмента, пианино, ударные, бас – урабатывали гончую до смерти, тресь-тай-бум, хрясть, барабанщик весь сила и мышцы, огромная мускулистая шея держалась и качалась, нога грохотала в бас, старые интервалы, блумп, би хум, бламп, бум; пианино стучало его распяленными пальцами хоральным затактовым лязгом гона, прекрасные краски исходили из тональности его грохогитарных аккордов; блюз; а бас, как машина, шлепал внутрь сквозь чухпыхтенье времени с большим битом африканского мира, что происходит оттого, что сидишь перед кострами в сверчковой ночи, и делать тебе нечего, только отбивать время у великой стены лиан, подтолкни тэ, так а тик а так а тик, и стони давай, ступай стенай по чуваку, бедствие мира, злые души и невинные горные камни… и внезапные случайные хриплые крики, покуда все и каждый, все барабанщики и лунильщики, и сверчки-крикетеры с до звона натянутыми проводами (у этой штуки есть собственное название в Бельгийском Конго, родине барабана «конга», барабана боя сердечного, сердца мира, Адама и Евы, Эдема в Абиссинии), все осознают, что у них оно есть, ОНО, они во времени и живы вместе, и все в полном порядке, не волнуйся ни о чем, я люблю тебя, уихии —