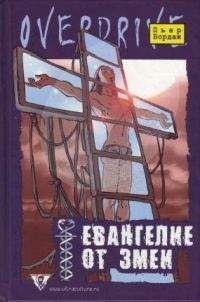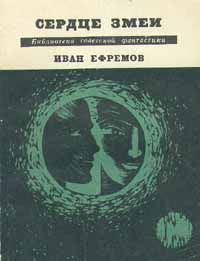Герман Гессе - Игра в бисер
Порою эти его способности и добродетели подвергались суровой проверке. Однажды ему пришлось бороться с неурожаем и дурной погодой, длившейся два года, это было тягчайшее испытание за всю его жизнь. Напасти и дурные предзнаменования начались уже во время сева, который пришлось дважды откладывать, а затем на всходы посыпались все мыслимые удары и беды, в конце концов почти полностью их уничтожившие; община жестоко голодала, и Слуга вместе со всеми; и то, что он пережил этот страшный год, что он, заклинатель дождя, не утратил всякое доверие и влияние, а смог помочь своему племени перенести это несчастье смиренно, не потеряв окончательно самообладания, – уже значило много. Когда же на следующий год, после суровой, отмеченной многими смертями зимы, возобновились все горести и лишения прошедшего года, когда общинная земля высохла и потрескалась от упорной летней засухи, когда несметно расплодились мыши, а одинокие моления и жертвоприношения заклинателя дождя были напрасными и остались без ответа, так же как совместные моления, бой барабанов» молитвенные шествия всей общины, когда с беспощадной ясностью стало очевидно, что заклинатель дождя и на сей раз бессилен вызвать дождь, – это было уже не шуткой, и только такой необыкновенный человек, как он, мог взять на себя всю ответственность и не сломиться перед напуганным и взбудораженным народом. В течение двух или трех недель Слуга оставался совсем один, на него ополчилась вся община, ополчились голод и отчаяние, и все вспомнили о старом поверье, будто смягчить гнев высших сил можно, только принеся в жертву самого заклинателя погоды. Он победил своей уступчивостью. Он не оказал никакого сопротивления, когда возникла мысль о принесении его в жертву, он даже сам предлагал пойти на это. К тому же, он с неслыханным упорством и самопожертвованием старался облегчить тяготы племени, не переставал отыскивать новые источники воды: то родничок, то углубление, наполненное водой, не допустил, чтобы в самые тяжелые дни уничтожили весь скот, а главное – своей поддержкой, советами, угрозами, волшебством и молениями, собственным примером и устрашением – не дал тогдашней родоначальнице селения, дряхлой женщине, впавшей в пагубное отчаяние и душевную слабость, сломиться духом и безрассудно пустить все по течению. Тогда-то стало ясно, что во дни смут и великих тревог человек может принести тем больше пользы, чем больше его жизнь и мысль направлены на духовные, сверхличные цели, чем лучше он умеет подчиняться, созерцать, молиться, служить и жертвовать собой. Эти два страшных года, едва не сделавших его жертвой, едва не погубивших его, принесли ему в конце концов величайшее признание и доверие, и не только среди толпы непосвященных, но и среди немногих, несущих ответственность, тех, кто в состоянии был оценить человека такого склада, как Слуга.
Так через эти и разные другие испытания текла жизнь Слуги. И вот он достиг зрелого возраста и теперь находился в зените жизни. Он похоронил на своем веку двух родоначальниц племени, потерял прелестного шестилетнего сыночка, которого унес волк, превозмог без чьей-либо помощи тяжелую болезнь, исцелив себя сам. Не раз страдал он от голода и холода. Все это оставило следы на его лице и не менее глубокие – в душе. Он познал также на собственном опыте, что люди духа вызывают у остальных своего рода неприязнь и отвращение, что их почитают, правда, на расстоянии, и в случае нужды прибегают к их помощи, но отнюдь не любят, не считают себе равными и стараются их избегать. Он убедился также в том, что больные и обездоленные гораздо охотнее воспользуются перешедшими по наследству или вновь придуманными волшебными заговорами и заклятиями, нежели примут разумный совет, что человек готов скорее терпеть бедствия и притворно каяться, нежели измениться внутренне, а тем паче попытаться себя переделать, что он скорее поверит в волшебство, чем в разум, в заклинания, чем в опыт: все это обстоятельства, которые за последующие тысячелетия, пожалуй, изменились не настолько, как это утверждают иные исторические труды. Но Слуга понял также, что человек пытливый, человек духа не должен утрачивать чувство любви; что он должен относиться к желаниям и слабостям людей без высокомерия, хотя и не подчиняться им, что от мудреца до шарлатана, от священника до фокусника, от человека, оказывающего братскую помощь, до корыстолюбивого бездельника – всего один шаг, что люди, в сущности, охотнее платят шарлатану, дают обмануть себя базарному зазывале, чем принимают бескорыстную помощь, не требующую вознаграждения. Они не любят платить доверием и любовью, предпочитая рассчитываться деньгами и добром. Они обманывают других и сами ожидают обмана. Надо было научиться видеть в человеке существо слабое, себялюбивое и трусливое, но в то же время необходимо было признать, что и тебе присущи эти дурные черты и инстинкты, а также верить, верить всей душой, что в человеке живет также дух и любовь, нечто, противоборствующее инстинктам и стремящееся их облагородить. Эти мысли изложены здесь, конечно, более ясно, сформулированы более четко, нежели способен был бы сделать Слуга. Скажем только: он был на пути к этим мыслям, его путь вел к ним и далее – через них.
Идя по этому пути, тоскуя по мысли, но живя более в мире чувственном, околдованный луной, ароматом цветка, соком корня, вкусом коры, выращивая целебные травы, приготовляя мази, подчиняясь погоде и явлениям атмосферы, он выработал в себе некоторые способности, в том числе такие, которыми мы, потомки, уже не обладаем и которых теперь даже вполовину не понимаем. Важнейшей из этих способностей, конечно, было заклинание дождя. Хотя были особые случаи, когда небо оставалось к нему жестоким и безжалостно издевалось над его усилиями. Слуга все же сотни раз вызывал дождь и почти каждый раз несколько иным способом. Правда, в церемонию жертвоприношений, в ритуал молитвенных шествий, заклинаний, в барабанную музыку он не осмеливался вносить никаких изменений или что-нибудь пропускать. Но ведь это была лишь официальная, открытая для всех часть его деятельности, ее служебная и жреческая показная сторона; и конечно, это было изумительное зрелище, внушавшее прекрасные, возвышенные чувства, когда вечером, после дневных жертвоприношений и процессий, небеса сдавались, горизонт покрывался тучами, ветер приносил запахи влаги и падали первые капли дождя. Но здесь-то и требовалось искусство заклинателя, надо было правильно выбрать день, а не стремиться напролом к недостижимому; приходилось умолять силы небесные, даже докучать им, но все это с чувством меры, выражая покорность их воле. И гораздо дороже, чем эти прекрасные, праздничные свидетельства успеха и милости богов, были ему другие переживания, о которых никто, кроме него, не знал, да и он воспринимал их с робостью и не столько своим разумом, сколько чувствами. Иногда бывали такие состояния выгоды, такая напряженность воздуха и тепла, облачности и ветров, такие запахи воды, земли и пыли, такие угрозы или обещания, причуды и капризы демонов погоды, которые Слуга предчувствовал и ощущал всей своей кожей, волосами, всеми своими чувствами, и потому ничто не могло ни поразить, ни разочаровать его, он впитывал в себя погоду и носил ее в себе так глубоко, что уже был в силах повелевать тучами и ветром: конечно, не по своему произволу, не по своему усмотрению, а именно вследствие этого союза с природой и связанности с нею, которая совершенно стирала грань между ним и всем миром, между внутренним и внешним. В такие минуты он мог самозабвенно стоять на месте и слушать, самозабвенно замирать на корточках и не только чувствовать всеми порами тела каждое движение воздуха и облаков, но и управлять ими и воссоздавать их, подобно тому как мы можем пробудить в себе я воспроизвести хорошо знакомую музыкальную фразу. И тогда, стоило лишь ему задержать дыхание, как ветер или гром смолкали, стоило ему склонить голову или покачать ею, как начинал сыпать или прекращался град, стоило выразить улыбкой примирение борющихся сил в собственной душе, как наверху разглаживались складки облаков, обнажая прозрачную, чистую синеву. Порою, будучи в состоянии особенно ясной просветленности и душевного равновесия, он ощущал в себе погоду ближайших дней, предвидел ее точно и безошибочно, словно в крови у него была запечатлена вся партитура, по которой она должна разыграться. То были самые лучшие дни его жизни, в них были его награда, его блаженство.
Когда же эта сокровенная связь с внешним миром нарушалась, когда погода и весь мир становились чужды, непонятны, чреваты неожиданностями, тогда и в его душе рушился порядок и прерывались токи, тогда он чувствовал, что он – не подлинный заклинатель дождя, а работу свою и ответственность за погоду и урожай воспринимал как тяжкое бремя и обман. В такие дня он любил сидеть дома, слушался Аду я помогал ей, прилежно занимался домашними делами, мастерил детям инструменты и игрушки, возился с изготовлением снадобий, испытывал потребность в любви и желание как можно меньше отличаться от прочих людей, полностью подчиняться обычаям и нравам племени и даже выслушивал неприятные ему в другое время пересуды жены и соседок о жизни, самочувствии и поведении других людей. В счастливые дни его мало видели дома, он подолгу бродил под открытым небом, ловил рыбу, охотился, искал коренья, лежал в траве или забирался на дерево, вдыхал воздух, прислушивался, подражал голосам зверей, разжигал маленькие костры, чтобы сравнить клубы дыма с формой облаков на небе, пропитывал волосы я кожу туманом, дождем, воздухом, солнцем или лунным светом, попутно собирая, как это делал всю свою жизнь его предшественник и учитель Туру, такие предметы, в которых суть и внешняя форма, казалось, принадлежали к различным сферам, в которых мудрость или каприз природы слово приоткрывали свои правила игры и тайны созидания, предметы, в которых самое отдаленное сливалось воедино, к примеру, наросты на сучьях, похожие на лица людей и морды животных, отшлифованную водой гальку с узором, напоминающим разрез дерева, окаменелые фигурки давно исчезнувших животных, уродливые или сдвоенные косточки плодов, камни в форме почки или сердца. Он умел прочитать рисунок жилок на древесном листке, сетку линий на морщинистой шляпке сморчка, прозревая при этом нечто таинственное, одухотворенное, грядущее, возможное: магию знаков, предвестие чисел и письмен, претворение бесконечного, тысячеликого в простое – в систему и понятие. Ибо в нем были заложены все эти возможности постижения мира с помощью духа, возможности, пока еще безымянные, не получившие названия, но отнюдь не неосуществимые, не немыслимые, пока еще скрытые в зародыше, в почке, но свойственные ему, органически в нем растущие. И если бы мы могли перенестись еще на несколько тысячелетий назад, до того, как жил этот заклинатель дождя, времена которого кажутся нам теперь ранними и первобытными, мы бы и тогда – таково наше твердое убеждение –уже в первом человеке встретили бы дух, тот дух, что не имеет начала и извечно содержал в себе то, что он сумел создать в позднейшие времена.