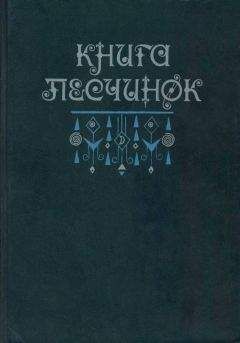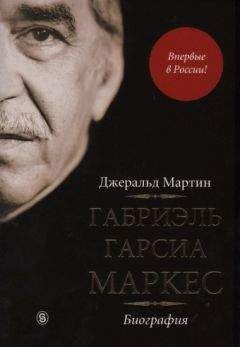Всеволод Багно - Книга песчинок: Фантастическая проза Латинской Америки
Однажды вечером, когда торговец и его помощники завершили дневные дела, на большой лестнице заслышались тихие, осторожные шаги. Торговец, человек от рождения раздражительный, спросил, какой дьявол развлекается, прохаживаясь в такой час по его конструкции, но помощники лишь оторопело поглядели на него и ничего не ответили, а шаги стали приближаться, хотя и не было видно, кому они принадлежат,— мешали излишне высокое ограждение и сгущавшиеся сумерки. Тогда-то и воцарилась странная тишина, не нарушаемая ни грохотом телеги по каменной мостовой, ни даже стрекотом цикады в траве, которой порос двор.
На последнем витке шаги наконец смолкли. И тут же завиднелись узкие серые брючки, шикарнейшая жилетка, наконечник трости, в диковинную искру сюртук, широкий ярко-красный бант и гордо поднятая благородная голова. Что касается лица — разглядеть можно было лишь чрезмерно длинный нос и бороду, более черную, чем сама темнота. Достигнув последней ступени, незнакомец тронул свой цилиндр концом трости и, ничего не говоря, повернулся с намерением направиться к воротам.
Багровый от ярости, не по своей воле оказавшийся в роли амфитриона, хозяин судорожно потряс кулаком, однако что-то в этой блистательной спине заставило его вовремя сдержаться.
— Вы кто? — крикнул он что было мочи.— Какого дьявола... вы?!
Ведь в течение всего дня (а дело было в воскресенье, когда работали тайком) никто не заявился во двор, у которого к тому же не было другого входа, помимо скрипучих решетчатых ворот, куда въезжают повозки.
А тот, чуть покосившись, словно сомневаясь в услышанном, тихо ответил:
— Никто.
И удалился вверх по лестнице большими пружинистыми шагами, в которых не было и намека на поспешность.
Торговец в сердцах бросил на землю молоток. Лестница бесстрастно ввинчивалась в ночь, ее верх был озарен тихим помешательством звезд. Работники проследили глазами беспорядочный шум вдоль подъема, ступенька за ступенькой уходящего на невероятную высоту, где этот шум превратился в прежнее безмолвие. Так как никто не возвращался оттуда, двое или трое работников поднялись наверх — раза два фонарь мигнул на витках подъема, раза два мелькнул при спуске.
— Никого там наверху нет,— сказал один из работников, перекрестившись.
Они прождали до утра, при лихорадочном свете фонарей, у основания большой винтовой лестницы, около всех этих каркасов и переплетений, которые никуда не вели.
Но больше никогда никто не спустился по большой лестнице.
ДОМИНО
Субботний вечер открыл нам глаза на невероятную катастрофу, о которой никто и не догадывался. Я признаю, что в субботе как таковой нет ничего особо злокозненного — день как день, и было бы несправедливо вменять ей свойства, тяготеющие к ужасам, если бы даже эти ужасы были связаны с казнями. Но, понимая все это, я не могу успокоиться и утверждаю, что она была мне антипатична еще раньше, словно бы я предчувствовал, что только она могла пролить свет на бесстрастные фишки, на жадную пасть Домино.
А было это на закате... Сразу обмолвлюсь, что и я иногда передвигал зубы цвета слоновой кости в черной челюсти коробки, дрожа от возбуждения, когда представлялся случай перегрызть горло судьбе зубами счастливых фишек,— у меня не было ни малейшего предубеждения против этой безобидной игры, и в ее дурашливых помаргиваниях я не находил ничего, кроме сонливости. Так что не было ничего особенного в том, что в течение нескольких месяцев на верхнем этаже сходились игроки и доносился обычный шум, который добрососедская симпатия делает сносным, в эти субботние дни гомон игроков смешивался с грохотом города — слух жаждал этого, привычка влекла. Но вчера, на закате, я отложил книгу — что-то неведомое оледенило даже самый воздух: впервые умолкли возгласы поражения и милый ор триумфа, все окутала бесконечно полная тишина. Когда наконец я понял, что меня вот уже некоторое время тревожило непереносимое напряжение этого безмолвия (того, что не могу назвать иначе чем абсолютной пустотой, лишенной каких-либо шумов или звуков — машин, радио, бог весть чего), единственное, что я мог слышать в пору заката, был одинокий удар костей о кости — оглушительное размеренное клацание коренных зубов.
Хозяин верхнего помещения был толстым гигантом. Нам, наблюдавшим за его делами, он казался античным жрецом, облаченным в непорочный иней белого одеяния. Действительно ли его увлечение Домино объяснялось нескончаемой, утомительной работой, было тем бассейном, в который время от времени он погружал для восстановления сил свою усталость? Элементарное благоразумие предостерегает меня от желания вникать во все, что связано с трудом торговца,— не станем задаваться вопросом, как им удается все глубже и шире утверждаться в их деле, да и момент не самый подходящий, чтобы предаться столь соблазнительному занятию. Достаточно и того, что в его бесконечной трудовой неделе все эти его усилия доставляли ему удовольствие, как животному, которое упивается полезной мощью своих мускулов, что в его бесконечной трудовой неделе наступал миг, и он застывал в своем прохладном белом облачении и грезил субботой, избранным днем, когда человек может показать себя хозяином своей жизни и потратить вечер на то, что не имеет ни малейшей пользы и к тому же весьма неприметно и лишено какого-либо великолепия,— просто так ему хочется.
Что касается других игроков, то я не видел никого из них (теперь никогда и не увижу!), кроме одного высокого сутулого господина с кислым выражением лица, помню еще зеленоватый отсвет спины его супруги на лестнице. Мне ни разу не удалось различить их голоса, все они смешиваются — смешивались — с оглушительным шумом суббот. По правде сказать, обо всех игроках я судил по одеянию соседа — все они являлись мне в облачении его белейшего благополучия.
Сейчас, когда я пишу в тени ужасающей воскресной передышки, я вижу, что сияние вчерашнего вечера бросает свет на другие случаи, которые до этого в силу своей тривиальности не обращали на себя внимания, а сейчас обнаруживают некое многозначительное мерцание. Я все еще сохраняю независимость суждений, необходимую для понимания того, что я приметил еще раньше, сам того не понимая и отгораживаясь от всего своим житейским укладом: белый полотняный костюм соседа начал портиться.
Стало портиться его белое полотно. Я не мог бы сказать иначе. Именно таким было смутное ощущение, когда я, на миг проснувшись, испытал тупой ужас перед тем, что нас ожидает, тут же снова провалившись в слепой сон.
Домино распространилось по всему городу, мода на него стала сравнима с эпидемией. Газеты организовывали грандиозные состязания. Сообщения о Большом Международном Турнире по Домино почти целиком заполняли первые страницы — почти целиком, ибо все еще (сейчас это особенно видно) сохранялась последняя толика совестливости: надо было как-то оправдаться, оставить свидетельство того, что это чрезмерное увлечение было лишь неким милым перекосом, надо было сохранить последние признаки главенства, намекнуть, что в действительности истинные — пусть и отступившие пока в тень — интересы печати заключались совсем в другом. Все это время легкий ветерок безумства шевелил в лавках дорогие ткани, покинутые приветливыми продавцами, которые, улыбаясь, рассаживались перед витринами, где Домино, подобно зубам идола, начинало поблескивать из своих фантастических раковин-футляров.
Однажды утром я столкнулся у выхода из дома с жившим наверху соседом, который возвратился с работы раньше обычного. Он приветствовал меня беглой улыбкой и поспешно взбежал наверх. С некоторым удивлением поглядев ему вслед, я увидел темные жирные пятна на тучной выпуклости его широкой белополотняной спины.
Утро было прохладным, а солнце приятно улыбчивым. Вспоминаю таинственно уединенные пальмы, вспоминаю замкнутое быстрое перешептывание сосен и рассеянное безразличие облаков; я застыл в неподвижности, сам того не замечая, и вдруг услышал шум, протяжное клекотание, издаваемое костями, когда их беспорядочно вываливают на стол. Хотя я и не смог бы в точности передать отличие того дня, тающего в моих смутных воспоминаниях как один из бесчисленных островков, я помню, что, желая сгладить смутную брезгливость от вида грязных пятен на белой спине, я попытался похоронить и свою неприязнь к газетам, и недоумение при виде пустоглазых лавочников в фантастическом вымысле. «Все дело в том,— сказал я сам себе,— что Домино нуждается в этом человеке, нуждается в нем, как в желудке для переваривания и усвоения пищи, в результате чего возможна сама жизнь, а значит — и наилучший образ или высшая форма существования Домино. Если прежде Домино было у него в услужении,— говорил я и сам улыбался своему красноречию,— то сейчас он раб Домино, сейчас он ест для Домино, думает для Домино, которое пользуется им, как душа телом, в конечном счете живет для Домино». И еще вспоминаю, что, порадовавшись своему красноречию, я вдруг словно пробудился от фантазий и почувствовал ужас, от которого тут же отмахнулся, погрузившись в будничную дрему.