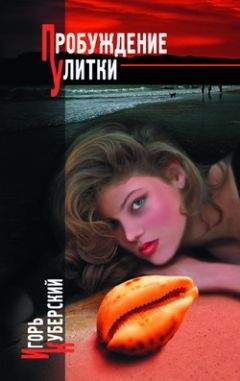Неизвестно - zolotussky zoil
Но, позвольте, какой же Достоевский без «христианничанья», или, если снять этот полный высокомерия «термин», без Христа? Так ведь это другой писатель будет. Да и только ли к Достоевскому это относится? Если мы оторвем русскую литературу от этого самого «христианничанья», то что получится? Даже с Герценом, не говоря уж о Достоевском и Толстом. Герцен писал: «Нет, великие перевороты не делаются разнуздыванием дурных страстей. Христианство проповедовалось чистыми и строгими в жизни апостолами... Апостолы нам нужны прежде авангардных офицеров, прежде саперов разрушенья, — апостолы, проповедующие не только своим, но и противникам.
Проповедь к врагу — великое дело любви».
Герцен с уважением относится к так называемому «христианничанью». А вот некий любитель «маргиналий», из статьи которого мы взяли это слово, уважения к нему не испытывает. В его «маргиналиях», безусловно, «христианничанья» нет, но зато там нет и ничего вообще. Одно только название, «маргиналии», да и то за тем, чтоб понять, что это такое, надо в словарь лезть.
Мы слишком мягки в отношении к именитым современникам и слишком строги, когда речь заходит об «ошибках» классиков. Это еще со школы начинается и почин этому дает критика. Это критики и литературоведы то тут, то там «поправляют» наших великих предшественников, которые жизнью своей заплатили за свои убеждения.
Если ты думаешь не так и думаешь искренне, то тоже плати. Ищи эти самые убеждения, в муках их рожай. А то получил готовенькими вместе с аттестатом и Достоевского теперь похлопываешь по плечу.
Может, это называется «идейная борьба»? Но, повторяю, борьба на таком уровне предполагает и уровень, и собственные выстраданные идеи, собственный путь. Ты же путь ставишь под сомнение, путь критикуешь (как в случае с Достоевским), а не терминологию. И критикуешь, не сходя с места. При том же школьном учебнике и находясь.
Нет, прав был Гоголь, тут нужен мастер своего мастерства. Мастер всегда поймет мастера. Мастер о вере и деле жизни мастера не напишет, что это, мол, христианничанье, пустяки. Даже, сочтя эту веру и это дело за заблуждение, он отдаст должное величию этого заблуждения.
Продолжу цитату из Герцена: «Проповедь к врагу — великое дело любви: они не виноваты, что живут вне современного потока, какими-то просроченными векселями прежней нравственности. Я их жалею, как больных, как поврежденных, стоящих на краю пропасти с грузом богатств, который их стянет в нее, — им надобно раскрыть глаза, а не вырывать их, — чтоб и они спаслись, если хотят».
И это говорится о врагах. Так неужто Достоевский нам враг?
Но мы на авторитет Герцена ссылаемся только тогда, когда он призывает быть непримиримым. Когда однозначно высказывается о каком-то явлении. Мы и с Чернышевским так привыкли поступать.
Но, не теряя своих убеждений и, более того, оставаясь тверды в них, наши предшественники, сами находясь на высоте, умели ценить высоту иной точки зрения.
Чернышевский в ответ на критику в адрес Гоголя позднего, якобы утратившего свой талант, писал: «Мы имеем сильную вероятность думать, что Гоголь 1850 г. заслуживал такого же уважения, как и Гоголь 1835 г.»
В течение года я наблюдал «идейную борьбу» между литературной газетой и толстым журналом. Журнал считал, что его направление правильное, газета, естественно, считала, что ее. Грубо говоря, одна сторона доказывала правду деревни, другая — правду города. Спор был вполне в духе газеты, которая давно уже питается дискуссиями типа «Быть или не быть?», «Есть ли литература на Марсе?» и т. п. Так вот с помощью цитат из всяческих постановлений били друг друга газета и журнал и ничего не добились. Не читал читатель их споров и опять-таки потому, что не мастера спорили, а «пристегнувшиеся сбоку» ремесленники. Читать их полные раздражения статьи было скучно — жанр искусственный, слово искусственное, вымученное, измочаленное, от частого употребления попортившееся. Стертый язык, цитата лезет на цитату, бьют друг друга не своим умом, а чужим, и хоть бы страсть была (а от нее и слово рождается), а то и страсти нет.
Так борьба ли это?
Зато когда другой критик в другом журнале предложил борьбу не искусственную, не с потолка взятую, а имеющую современный смысл, то на критика этого посыпались нападки. И — неизвестно за что. Критик он не увлекающийся, не загибщик, не экстремист. Спокойный, как у нас говорят, критик, серьезный. И статью хорошую написал — о целой, можно сказать, «школе» прозаиков. Так эта «школа», сама себя и назвавшая «школой», потому что никто ее так не называл и вряд ли назовет когда-нибудь, такой шум подняла!
Ну я понимаю, обидел он «школу» и имеет «школа» все права защищаться, но не теми же руками, какими основополагающие произведения этой «школы» пишутся. Я понимаю, когда критик критику говорит: да ты, брат, загнул, перехлестнул маленько. Хоть бы оставил что-нибудь от этой «школы» на закуску. А то всех разом и списал в обоз. Или писатель какой-нибудь (не из «школы») в защиту «школы» выступил.
А тут выступает сама «школа» (в которой, кстати сказать, что ни прозаик, то и критик и апологет «школы») и начинает себя защищать. С желчью и гневом и с какими- то даже дурными намеками. Потому что критик, напечатавший ту статью, не в Москве живет, а в провинции. Тут же ему это его местожительство в строку: а ты чего это на Москву напал? Москва тебе не нравится? (Уже не «школа», а Москва.)
Получается, что критик не против «школы», не против ее слабых писаний (а в этом все дело), а против Москвы и москвичей. Потому что школа та «московская» и ее создатели в Москве живут.
И пишет это все, и печатает в уважаемых органах такой же критик, он же прозаик этой «московской школы». Которого в вышеозначенной статье крепко (и доказательно) покритиковали Как же у него рука поднимается так мысли собрата искажать?
Чем хороша статья, о которой речь? Тем, что критик дал себе труд прочитать сочинения «школы» и внимательно в них вникнуть. Кстати, и написана она не уныло, а с некоторым блеском. Стало быть, от нее уже подлинным мастерством попахивает. Когда мастер, который сам писать умеет, говорит о какой-то книге, что она плоха или слабо написана, то вес его мнения как бы утяжеляется вдвое.
Тут и отвечать надо мастерством — и мастерски, — а не подводить под критику, выступающую против тебя, идейную базу.
Грустно это как-то.
Я вспоминаю еще один пример. Напечатал прозаик пьесу. В пьесе той такая брань по адресу «деревенской литературы», и самого типа «деревенского» писателя, или «писателя-деревенщика», какой я сроду не слыхивал. Получается по этой пьесе, что все наши беды от деревенской прозы пошли и от ее творцов. Покопайся поглубже, так к чему они зовут? Назад, к кулаку. И у самих у них, если в биографиях порыться, что-нибудь кулацкое обнаружится. Их реализм и нашу молодежь свихнул с ума. Она, начитавшись этой прозы, и пить стала, и в разводы ударилась.
И хоть бы что. Хоть бы одна робкая рецензия на эту пьесу появилась. Прозаик-то
— большой чин. Трогать его не позволено. Сами признаем, что деревенская проза — лучшее, что появилось в нашей литературе за последние годы. А заступиться не можем. Сказать этому автору пьесы, что помимо сущностной лжи (то есть лжи по сути) есть в ней еще и ложь плохой пьесы. Потому что написано это так, что хоть святых выноси.
Даже тот журнал, о котором я упоминал и который горой за деревню стоит, не сказал ни слова. Так отчего беды нашей критики — от эссеизма или от этого?
Хочется помечтать. О чем? О том, чтоб этого не было. Чтоб это, как принято у нас говорить, никогда не повторялось.
Помечтаем сообща!
1982 г.* * *
Год начался печатанием «Печального детектива» и кончается публикацией романа А. Бека «Новое назначение». О разных эпохах идет в них речь. В «Печальном детективе»
— наши дни, у Александра Бека, написавшего свой роман более двадцати лет назад, — пятидесятые годы. В «Печальном детективе» давно нет Сталина, нет даже воспоминаний о нем, «Новое назначение» — роман об эпохе Сталина, о людях той эпохи, которые после смерти «хозяина» или «кумира», как называет его А. Бек, не могут перейти в новую жизнь, сламываются и погибают от ностальгии.
И все-таки тридцать с небольшим лет отделяют время действия одного романа от времени действия другого романа. Между двумя эпохами ощущается кровная связь. То поколение, которое входило в жизнь после смерти Сталина, в романе Астафьева принимает на себя тяжесть решений. Это поколение Сошнина. Но рядом с ним и вместе с ним живут и доживают свои дни тс, которых эпоха Сталина воспитала и образовала — тетя Граня, Чича, Маркел Тихонович, его жена Евстолья. Они захватили и двадцатые, и тридцатые, и сороковые годы. Это люди поколения Онисимова — главного героя романа Бека.