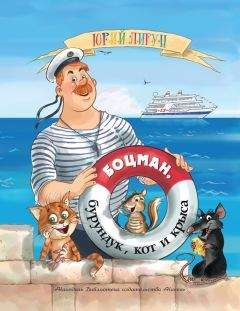Вирджиния Вулф - Ночь и день
Кэтрин и Ральф поняли друг друга с полуслова, и вскоре она уже сбежала к нему в холл, накинув пальто. Была ясная лунная ночь – идеальная для прогулок, как и всякая ночь теперь для этих двоих, поскольку им больше всего на свете хотелось движения, свободы, тишины.
– Наконец-то! – выдохнула она, когда за ними закрылась парадная дверь.
И принялась рассказывать ему, как ждала, и тосковала, и думала, что он никогда больше не придет, прислушивалась к каждому хлопку двери, и каждый раз надеялась, что он стоит там, под фонарем, на улице, и смотрит на ее дом. Они оглянулись на тихий дом с горящими окнами – его дражайшую святыню. И хотя она, смеясь, шутливо дергала его за рукав, он бы не отрекся от прежней веры, однако прикосновение ее руки и волшебные переливы ее голоса не оставляли ему времени на раздумья – да и не очень-то хотелось, – было нечто другое, требовавшее его внимания.
Каким-то образом они оказались на ярко освещенной улице с множеством фонарей, сияющими перекрестками, снующими в два ряда омнибусами – и, выбрав наугад один из них, взобрались наверх и устроились на переднем сиденье. Покружив немного по относительно темным улицам, таким узким, что тени от жалюзи едва не касались их лиц, они выехали на оживленную развязку, куда стекаются желтые огни, чтобы потом, редея, разбежаться в разные стороны. Так они парили между небом и землей, пока впереди не замаячили бледные и плоские на фоне ночного неба церковные шпили лондонского Сити.
– Замерзла? – спросил он, когда они вышли у Темпл-Бар.
– Да, немного, – ответила она.
Роскошная гонка огней вокруг блуждающего и кружащего городского омнибуса подошла к концу, подумала она. В мыслях они повторяли этот маршрут, парили над толпой, как победители на колеснице, наслаждаясь пышным зрелищем по праву хозяев жизни. Теперь они стояли на тротуаре, и восторги поутихли, но им было так хорошо вместе! Ральф остановился под газовым фонарем зажечь трубку.
Желтоватое пламя высветило на миг его лицо.
– Домик! – сказала Кэтрин. – Мы снимем домик и поселимся там.
– И все здесь бросим? – спросил он.
– Если хочешь, – ответила она и, глядя в небо над Чансери-Лейн, подумала: этот кров над головой всюду одинаков, и теперь у нее есть все, что сулила эта высокая синева, ее ровный негасимый свет, – реальность ли, цифры или любовь, истина?
– Я тут вспомнил, – задумчиво сказал Ральф, – о Мэри Датчет. Ее дом совсем рядом. Ты не против, если мы зайдем к ней?
Кэтрин отвернулась и не сразу ответила ему. В этот вечер ей не хотелось никого видеть. Она только что узнала ответ на величайшую загадку Вселенной, разрешила важнейшую задачу: на один краткий миг в ее ладонях очутился весь мир – крохотный шарик, который каждый из нас всю жизнь пытается создать для себя из первозданного хаоса. А встреча с Мэри могла бы повредить его целостности.
– Ты нехорошо обошелся с ней? – спросила она, думая о чем-то своем.
– У меня есть оправдание, – ответил он почти вызывающе. – Но какая разница, если речь идет о человеческих чувствах. Я загляну к ней буквально на минуту, – добавил он, – только чтобы сказать…
– Разумеется, ты должен ей все рассказать, – ответила Кэтрин и внезапно испугалась за него из-за того, что он собирался сделать, за его крохотный новый мир, созданный из хаоса, – если, конечно, он у него был.
– Я бы хотела… хотела… – начала она, но тут печаль нахлынула и затуманила ее взор. Мир затрепетал у нее перед глазами, словно его вдруг затопили непролитые слезы.
– Я ни о чем не жалею, – твердо сказал Ральф.
Она прильнула к нему, словно надеялась увидеть то же, что и он. Она все еще с трудом понимала его, но за этой замкнутостью, как за дымовой завесой, все чаще виделся ей жаркий огонь, источник жизни.
– Продолжай, – сказала она. – Итак, ты ни о чем не жалеешь?..
– Ни о чем, – повторил он.
«Это он! Он и есть мой огонь», – подумала она. Она представляла его как костер, пылающий в ночи, но при этом он все еще был непостижим – настолько, что, даже держа его за руку, как сейчас, она касалась лишь некой субстанции, окружающей невидимое для нее ревущее пламя.
– Почему – ни о чем? – быстро спросила она, чтобы спросить хоть что-то, чтобы он продолжал говорить, чтобы ярче сиял, отчетливее проступал сквозь дым этот рвущийся к небесам неукротимый огонь.
– О чем ты думаешь, Кэтрин? – насторожился он, заметив, что тон ее переменился: стал мечтательным, она говорила словно в полусне.
– Я думала о тебе – правда-правда. Я всегда думаю о тебе, только ты представляешься мне в таких странных образах. Ты разрушил мое одиночество. Сказать, как я тебя вижу? Нет, лучше ты расскажи. Расскажи мне все с самого начала.
Он начал рассказ. Речь его вначале была сбивчивой, но по мере повествования становилась все более оживленной, все более страстной – а она слушала, склонив голову ему на плечо, с восторгом ребенка и с благодарностью взрослой женщины. И лишь изредка перебивала:
– Но ведь это глупо – стоять на улице и глядеть на окна! А если бы Уильям тебя не заметил? Так и простоял бы всю ночь?
На это он ответил, что тоже не понимает, как в ее возрасте можно забыть обо всем, заглядевшись на уличное движение на Кингсуэй.
– Но ведь именно тогда я впервые поняла, что люблю тебя! – воскликнула она.
– Расскажи теперь ты все с самого начала.
– Нет, я не умею рассказывать, – отнекивалась она. – Я буду говорить глупости – про огни, костры. Нет, лучше не стоит.
Но он настаивал и услышал взволнованный рассказ, показавшийся ему чудесным – о багровом пламени в клубах дыма, – как будто ступил на порог сумеречного неведомого мира, наполненного смутными тенями, огромными, неясными; выхваченные внезапной вспышкой, они проступали из мрака и вновь отступали, поглощенные тьмой. Тем временем они добрались до переулка, где жила Мэри Датчет и, увлеченные беседой, прошли мимо ее подъезда, даже не поглядев наверх. В такой поздний час улицы были почти пустынны – ни транспорта, ни пешеходов, и как приятно было идти не спеша, взявшись за руки, лишь время от времени указывая друг другу что-нибудь интересное на широком темно-синем пологе небес.
И в этом состоянии счастливой безмятежности наступил момент такой полной ясности, что любые жесты и слова казались излишними. Они погрузились в молчание, вместе, рука об руку, углубившись в темные лабиринты мысли – к чему-то смутно маячившему вдали, что приближалось, нарастало и постепенно овладевало обоими. Они были победители, хозяева жизни, и вместе с тем жертвы – ибо добровольно принесли себя на алтарь этого всепоглощающего чувства, что пылало, подобно священному огню. Так они, наверное, раза два или три доходили до конца переулка и поворачивали обратно, пока что-то не заставило их остановиться, они и сами не поняли сначала почему. Повторяющаяся картина – ровный свет за тонкой желтой шторой – напомнила о себе.
– У Мэри свет в окне, – сказал Ральф. – Значит, она дома.
Он указал на другую сторону улицы, и Кэтрин тоже взглянула туда.
«Интересно, она одна? Работает? Чем она занята сейчас?» – задумалась Кэтрин, а вслух сказала:
– Зачем ее отвлекать? Что мы ей скажем? – И добавила: – Она тоже счастлива, у нее есть работа… – Голос Кэтрин пресекся, и уличные огни дрогнули и расплылись золотым морем, затуманенные слезами.
– Значит, ты не хочешь, чтобы я зашел к ней? – спросил Ральф.
– Иди, конечно. Поговори с ней, – ответила Кэтрин.
Он перебежал дорогу и вошел в дом. Кэтрин осталась стоять там, где он ее оставил, и смотрела на освещенное окно, надеясь увидеть за ним движущиеся тени. Но ничего не увидела. По-прежнему непроницаемо желтели шторы, из окна лился ровный безмятежный свет. Он словно подавал ей знак – свет победы, который теперь будет сиять там всегда, и в этой жизни его уже не погасить. Это было счастье, она приветствовала его и почтительно склонялась перед ним. «Как же ярко они горят!» – подумала она, когда вся лондонская темень вдруг расцветилась трепещущими, рвущимися ввысь огнями, но снова взглянула на окошко Мэри и больше уже ничего не замечала. Через некоторое время от темного дверного проема отделилась фигура – Ральф пересек улицу и медленно подошел к ней.
– Я не решился зайти. Не смог, – сказал он.
Ральф все это время простоял у двери, не смея постучать, и, даже если бы Мэри вышла из квартиры, он не смог бы ничего ей сказать: душили слезы.
Несколько минут они молча смотрели вдвоем на освещенные изнутри шторы, и отчужденность и безмятежность этой картины красноречивее всего говорили о женщине, которая сидит сейчас за этим окном, трудится допоздна, чтобы сделать мир лучше, – и это будет неведомый, новый мир. А за этим образом потянулись и другие, и первой из них Ральфу припомнилась Салли Сил.
– Ты помнишь Салли Сил? – спросил он.
Кэтрин кивнула.
– Твоя мама и Мэри? Родни и Кассандра? Джоан там, в Хайгейте? – Он замолчал, не в силах объяснить, что заставило его объединить всех этих людей. Они были для него не просто отдельными личностями, но частью единого целого; через них он представил себе упорядоченный мир.