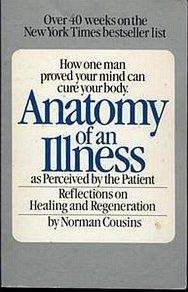Эндрю Соломон - Демон полуденный. Анатомия депрессии
«Прими сие страдание, — писал когда-то Овидий, — ибо научишься у него». Вполне возможно (хотя пока и маловероятно), что с помощью химических манипуляций мы сумеем локализовать, контролировать и устранять «электронные схемы» мозга, ответственные за страдание. Я надеюсь, что этого никогда не произойдет. Отнять это у нас означало бы опошлить наше переживание жизни, посягнуть на структуру, ценность которой далеко перекрывает мучения, являющиеся ее составными частями. Если бы я мог видеть мир в девяти измерениях, я бы согласился многое отдать за это. Но я скорее соглашусь вечно жить в тумане тоски, чем отказаться от способности страдать. Страдание само по себе нельзя назвать острой депрессией: мы любим и нас любят, испытывая большие страдания, и мы живы их переживанием. То, что я действительно стремлюсь изгнать из своей жизни, — это состояние ходячей смерти, в которое ввергает депрессия, и эта книга призвана служить оружием против такого умирания.
Глава II
Срывы
Яне испытывал депрессии, пока не разрешил, по большей части, все свои проблемы. Моя мать умерла за три года до этого, и я уже свыкался с этим событием; я уже издал свой первый роман; я прекрасно ладил с родными; я вышел невредимым из мощного двухлетнего романа; я купил прекрасный новый дом; я печатался в The New Yorker. И вот, когда жизнь наконец наладилась и никаких поводов для отчаяния не оставалось, депрессия подкралась на своих кошачьих лапах и все испортила, и я остро ощущал, что в моих обстоятельствах оправдания для нее нет. Впасть в депрессию после травмы или когда жизнь являет сплошной кавардак — совершенно закономерно, но предаваться депрессии, когда наконец оправился от травмы и твоя жизнь в полном порядке, — это сбивает с толку и выводит из равновесия. Конечно, ты осознаешь глубинные причины: извечный кризис существования, забытые переживания раннего детства, мелкие обиды, нанесенные теми, кого уже нет, потеря друзей по собственной небрежности, осознание той истины, что ты не Лев Толстой, отсутствие в мире сем совершенной любви, порывы алчности и немилосердия, слишком близко лежащие у сердца, и многое другое. Но теперь, перебирая весь этот реестр, я понял, что моя депрессия — состояние моего ума и она неизлечима.
Мою жизнь нельзя назвать особенно тяжелой. Большинство людей были бы счастливы, выпади им в начале игры мои карты. У меня бывали времена лучше и времена хуже — по моим собственным меркам, но просто спадами случившегося со мною не объяснить. Была бы моя жизнь труднее, я бы совсем иначе понимал свою депрессию. Но ведь у меня было довольно счастливое детство, с обоими родителями, которые одаривали меня любовью, и с младшим братом, которого они тоже любили и с которым мы вполне ладили. Это была семья крепкая настолько, что у меня и мысли не возникало о разводе или о серьезной ссоре между родителями, которые по-настоящему любили друг друга, и хотя и спорили временами о том о сем, но вопрос об их абсолютной преданности друг другу и нам с братом никогда даже не стоял. У нас всегда хватало средств на вполне комфортабельную жизнь. Я не пользовался особой популярностью в начальной школе и в средней, но в старших классах у меня составился круг друзей, с которыми мне было совсем неплохо. Учился я всегда хорошо.
В детстве я был несколько застенчив, страшился осрамиться на людях — а кто не таков? В старших классах я начал замечать за собой периоды неустойчивого настроения, в которых опять-таки нет ничего необычного в подростковом возрасте. Был период, в одиннадцатом классе, когда у меня появилось убеждение, что школьное здание, где проходили уроки (простоявшее почти сто лет), скоро обрушится, и мне, помнится, изо дня в день приходилось закаливать себя против этой странной душевной смуты. Я понимал, что это чушь, и обрадовался, когда примерно через месяц все прошло.
Потом я поступил в колледж, где был блаженно счастлив и встретил множество людей, остающихся моими друзьями по сей день. Я занимался и развлекался изо всех сил, познал целый круг новых эмоций и новые горизонты интеллекта. Иногда, оставаясь один, я вдруг чувствовал себя в изоляции, и это была не просто тоска от одиночества, а страх. У меня было много друзей, и я тогда отправлялся к кому-нибудь из них; обычно это меня отвлекало от моей заботы. Это случалось нерегулярно и не причиняло реального вреда. В аспирантуру на степень магистра я поехал в Англию, а окончив, довольно плавно начал писательскую карьеру. Несколько лет прожил в Лондоне. У меня было много друзей и несколько любовных приключений. Все это во многом и сохранилось, моя жизнь и сейчас нравится мне, и я благодарен за это судьбе.
Когда начинается тяжелая депрессия, появляется склонность рассмотреть ее корни. Хочется узнать, откуда она взялась, всегда ли была где-то рядом или напала на тебя внезапно, как пищевое отравление. Со времени первого срыва я месяцами подряд вносил в реестр неприятности раннего периода жизни, все, как есть. Я родился ягодицами вперед, а некоторые авторы связывают ягодичные роды с родовой травмой. У меня была дислексия[14], хотя мама, рано ее уловив, с двух лет стала учить меня способам ее преодолевать, так что это никогда не было для меня серьезной помехой. Я рано начал говорить, но с координацией было плоховато. Когда я спросил маму о самых ранних моих травмах, она сказала, что я с трудом учился ходить, и хотя речь не вызывала у меня никаких усилий, моторные реакции и чувство равновесия развивались медленно и несовершенно. Мне рассказывали, что я падал, и падал, и падал без конца и только после долгих уговоров соглашался хотя бы попытаться встать на ноги. Моя неспортивность, следствие всего этого, стала причиной моей непопулярности в начальной школе. Естественно, дети такого не прощают, но неприятие со стороны сверстников было мне обидно; впрочем, у меня всегда было несколько друзей, и мне всегда нравились взрослые, а я им.
У меня много разрозненных, не структурированных воспоминаний из раннего детства, и почти все они счастливые. Однажды на сеансе у психоаналитика мне сообщили, что некая слабо очерченная последовательность моих ранних воспоминаний заставляет предполагать, что когда-то в детстве я подвергся сексуальным домогательствам. В принципе это, конечно, не исключено, но я так и не сумел ни вспомнить ничего убедительного на эту тему, ни найти никаких свидетельств. Если что-то и было, то, скорее всего, что-нибудь достаточно нежное, потому что за мной тщательно следили и любой синяк или разрыв были бы немедленно замечены. Помню один эпизод, мне тогда было шесть лет, и я находился в летнем лагере, — меня внезапно охватил беспричинный страх. Вижу все это как сейчас: сверху, на террасе, теннисный корт, справа столовая, мы сидим под большим дубом и слушаем истории. Вдруг я теряю способность двигаться. Я точно знаю, что со мной должно произойти что-то страшное, сейчас или потом, и что пока я жив, я не буду свободен. Жизнь, которая до тех пор воспринималась как твердая поверхность, на которой можно стоять и двигаться, стала вдруг мягкой и поддающейся под ногою, и я начал проваливаться сквозь нее. Если не двигаться, то можно было продержаться, но стоило пошевелить пальцем, и опасность нависала снова. Очень важным казалось, пойду ли я влево, или вправо, или прямо, но какое из направлений меня спасет, я не знал, во всяком случае, в каждый данный момент. К счастью, подоспел воспитатель и велел торопиться, потому что я опаздывал в бассейн; наваждение прошло, но я долго еще вспоминал о нем и надеялся, что оно никогда не повторится.
Я думаю, что когда такое случается с детьми, в этом нет ничего необычного. Экзистенциальная тоска у взрослых при всей своей мучительности обычно вознаграждается углублением самосознания; а первые откровения о хрупкости человека, первые намеки на то, что ты смертен, наваливаются безжалостно и действуют разрушительно. Я наблюдал подобные состояния у своих крестников и у племянника. Было бы глупой фантазией утверждать, что в июле 1969 года в лагере Гранд-Лейк я понял, что когда-нибудь умру; но я наткнулся, без всякой видимой причины, на свою общую уязвимость, на то обстоятельство, что моим родителям не подвластен мир и все в нем происходящее и что мне это тоже никогда не будет подвластно. У меня слабая память, и после того случая в лагере я стал бояться того, что теряется во времени, и ночами, лежа в постели, пытался запомнить все, что произошло в тот день, чтобы сохранить, — вот такая нематериальная жажда накопительства. Мне были особенно дороги родительские поцелуи на ночь, и я подстилал под голову салфетку, чтобы, если они скатятся с моего лица, успеть их собрать, и спрятать, и сохранить навечно.
С начала старших классов я стал ощущать в себе смутное чувство сексуальности, и это, надо сказать, было самой неразрешимой эмоциональной загадкой в моей жизни. Чтобы отгородиться от этого, я много общался с друзьями, и это была моя основная стратегия защиты от этой проблемы во все годы колледжа. Затем несколько лет прошло в неуверенности, была длинная череда связей с мужчинами и женщинами; это сильно осложнило отношения с матерью. Время от времени я впадал в состояние сильной тревоги без всякого конкретного повода — странной смеси тоски и страха. Это состояние иногда нападало на меня в детстве, пока я ехал в школьном автобусе. Иногда оно приходило ко мне в колледже в пятницу вечером, когда шумное веселье за окном насильственно нарушало уединенность темноты. Иногда это происходило во время чтения, а иногда — во время любовных утех. Оно всегда нападало на меня, когда я выходил из дома, и поныне это непременный атрибут всякого отъезда — даже когда я просто еду куда-нибудь на выходные, это состояние наваливается на меня, как только я запираю за собой дверь. Кроме того, оно обычно подступало, когда я возвращался домой. Бывало, меня встречает на пороге мать, или подруга, или даже одна из наших собак, и меня охватывает глубокая печаль, и эта печаль меня пугает. Я справлялся с нею, маниакально тусуясь с людьми, и это почти всегда меня отвлекало. Мне приходилось постоянно насвистывать веселую мелодию, чтобы ускользнуть от этой тоски.