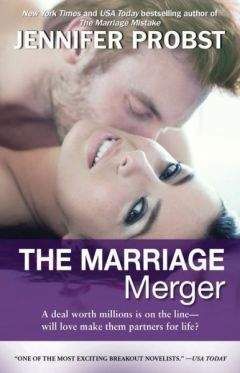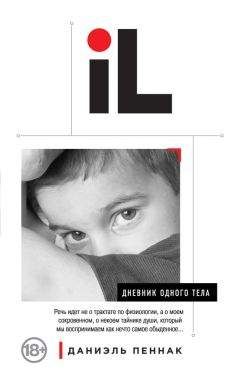Даниэль Пеннак - Дневник одного тела
ЗАМЕТКА ДЛЯ ЛИЗОН
…
Милая моя Лизон!
Следующую тетрадь ты опять можешь пропустить. Там ты найдешь только эту фразу, которая повторяется бессчетное количество раз. Виолетт действительно умерла. А для мальчика, каким я был тогда, она не должна была умирать. Понимаешь, она была под моей защитой. Та сила, которую я черпал у нее, из ее старых сил, сделала меня ее естественным защитником и покровителем. Пока я был рядом, с ней ничего не могло случиться. А она все равно умерла. Умерла, хотя я был рядом. Я один. Единственный свидетель ее смерти. Это случилось однажды днем, когда я, поднимаясь против течения реки, поймал пять форелей, а она ждала меня, сидя на красном складном полотняном стульчике (это она научила меня ловить форель голыми руками: прижимай ее как следует к камням, а змей не бойся — маленькие твари больших не едят). Я бросил к ней в корзину пять рыбин, живых (она сама убивала их быстрым ударом о камень), а она умерла. На шестой рыбине. Она лежала, задыхаясь, рядом со стульчиком, ловя ртом воздух, совсем как форель, которую я выронил, бросившись к ней, стал звать ее по имени, стучать по спине, думая, что она чем-то подавилась, я расстегнул на ней платье, намочил свою рубаху в реке, чтобы сделать ей холодный компресс, и все это время она пыталась восстановить дыхание, хватала ртом воздух, а он душил ее — тот самый воздух, который должен был ее спасти, душил ее, в глазах у нее застыло удивление от этого предательства со стороны жизни, а руки цеплялись за меня, как цепляется за последнюю соломинку утопающий; она ничего не могла сказать, даже что умирает, только эти ледяные пальцы, этот сдавленный крик, эта зияющая дыра — дыхательное горло, эта хриплая, синеющая смерть, ибо она умирала, и мы оба это понимали. Виолетт, не умирай! Вот что я кричал. Не «На помощь!», не «Сюда!» — а «Виолетт, не умирай!», я повторял это снова и снова до того мига, пока не перестал видеть себя в ее глазах, когда эти глаза, такие близкие, перестали смотреть на что бы то ни было, когда она вдруг отяжелела у меня на руках тяжестью мертвого тела. После этого мы не двинулись с места. Задушивший ее воздух вышел из нее, и день для меня померк. Когда Робер с Марианной нашли нас, та форель была еще жива.
Мама забрала меня домой, там я закрылся у себя в комнате и принялся исписывать тетрадь единственной фразой: «Виолетт умерла». Ту самую тетрадь, которая лежит сейчас перед тобой, восьмую тетрадь моего дневника, исписав которую, я собирался приняться за следующую, а потом — еще, такой у меня был план: заполнить все последующие тетради одной-единственной фразой, «Виолетт умерла», тетрадь за тетрадью, писать без передышки до полного изнеможения. Судя по старательно выписанным буквам, решение было принято в спокойном состоянии. «Виолетт умерла» — это уже мой сегодняшний почерк, совершенно отработанный, — округлые, изящные завитки, непременные стенания в духе Третьей Республики, прилежно исписанные страницы, призванные смягчить нестерпимую боль. И так я стенал («Виолетт умерла!»), пока от изнеможения ручка не выпала у меня из руки. Я ослаб не от долгой писанины, а от пустого желудка. Потому что объявил голодовку. Мама не пошла на похороны Виолетт, мама говорила о Виолетт так же, как она говорила, когда Виолетт была жива, мама, думал я, оскверняла память о Виолетт (Никого я не оскверняю, а говорю что думаю!), и я объявил голодовку, чтобы не жить больше рядом с мамой. Я не знал тогда, что мама вообще не думала, что она принадлежала к бесчисленной когорте людей, которые совершенно искренно называют «мнением», «убеждением», «уверенностью», и даже «чувством», и даже «мыслью» некие туманные, неподвластные им ощущения, которыми они только и руководствуются в своих суждениях. Виолетт была фальшивой, Виолетт была вульгарной, Виолетт занимала не свое место, Виолетт наверняка воровала, Виолетт была неряха, алкоголичка, распустеха, от Виолетт дурно пахло, Виолетт должна была именно так кончить, — а я не хотел больше жить вместе с мамой. Пансион или смерть — таков был мой лозунг. А средством давления стала голодовка.
* * *14 лет, 11 месяцев, 3 дня
Вторник 13 сентября 1938 года
Ты? Голодовку? Посмотрим, что завтра будет! Она ошибается. Я держусь. Впрочем, это не так страшно. Я не жульничаю, тайком не ем. Когда голод становится нестерпимым, я выпиваю стакан воды, как это позволяется делать перед причастием. За столом она каждый раз ставит передо мной одну и ту же тарелку, как она поступает с Додо, когда тому не нравится то, что ему дают. Он думает, что мы будем выбрасывать еду! Она и правда ничего не понимает. Как интересно: человек, который считает, что все знает, так плохо понимает других. Но мне не хочется задумываться о ней. Я никогда больше не скажу «мама».
* * *14 лет, 11 месяцев, 4 дня
Среда, 14 сентября 1938 года
Сходил в туалет в последний раз. Теперь я на самом деле совершенно пустой. В желудке (или в кишечнике?) урчит, потому что мой пищеварительный аппарат работает впустую. Когда по-настоящему голодаешь, спишь, свернувшись калачиком. Как будто сворачиваешься вокруг желудка. Как будто пытаешься сдавить его, чтобы позабыть о том, что там — пусто. Днем только и думаешь, что о еде. Слюна становится сладкой. Думаю, в таком состоянии можно съесть что угодно. Додо хочет, чтобы я забрал его с собой в пансион. Он говорит, что не останется здесь один.
* * *14 лет, 11 месяцев, 5 дней
Четверг, 15 сентября 1938 года
Вчера вечером я стал жевать простыню. Это — не жульничество, просто мне надо было положить что-то в рот. Думаю, я жевал ее, даже засыпая. Додо воспользовался этим и стал меня шантажировать. Он взял с меня клятву, что я возьму его с собой. Он сказал: если ты не заберешь меня, я принесу сюда все самое вкусное и стану есть у тебя на глазах. Мы посмеялись.
* * *14 лет, 11 месяцев, 6 дней
Пятница, 16 сентября 1938 года
Сегодня утром она захотела меня обнять. Я вскочил с кровати. Не хочу, чтобы она прикасалась ко мне. Голова у меня закружилась, и я упал. Она хотела было меня поднять, но я закатился под кровать, чтобы она меня не достала. Она сказала, что отправит меня не в пансион, а в сумасшедший дом. И добавила: впрочем, все это одна комедия, ты ешь тайком, я видела! Она все время так говорит, чтобы саму себя успокоить. Мне Додо сказал.
* * *14 лет, 11 месяцев, 7 дней
Суббота, 17 сентября 1938 года
Пища — это энергия. У меня нет больше энергии. Мне не хватает ее для тела. С силой воли все в порядке, ничего не изменилось. Я не стану есть и разговаривать, пока она не согласится на пансион. Все равно какой, мне плевать.
Нельзя лежать, нельзя спать. Надо куда-нибудь ходить, шагать. Чем меньше ты ешь, тем кажешься тяжелее и тем длиннее кажутся расстояния. На улице я передвигаюсь от фонаря к фонарю. Дойду до одного, постою, переведу дух, взгляну на следующий и снова иду. За прогулку мне надо пройти так, по крайней мере, десять фонарей. Десять туда и десять обратно. Так, наверно, я буду ходить, когда состарюсь. Считая фонари.
* * *14 лет, 11 месяцев, 8 дней
Воскресенье, 18 сентября 1938 года
Она наняла новую кухарку — Роланду. Поскольку сама она теперь не заходит ко мне в комнату, обед мне приносит Роланда. Она заказывает ей мои любимые блюда. Сегодня днем это были макароны с помидорами и базиликом (соус из банок Виолетт!). Вечером — картофельная запеканка и простокваша с виноградным вареньем. Я ни к чему не притронулся. Только нагнулся над тарелкой и стал глубоко дышать, накрыв голову полотенцем — как при ингаляции. Аромат помидоров с базиликом наполняет тебя до краев, растекаясь по пустотам, образовавшимся внутри тебя от голода. Как и аромат мускатного ореха. Ты не поел, но наполнился. Роланда уносит нетронутые тарелки. Она, наверно, думает, что попала в дом к сумасшедшим. Додо говорит, что я действительно силен.
Я сам в августе помогал Виолетт готовить эти помидоры с базиликом. Не надо хранить банки слишком долго, дружочек, полтора-два месяца, не больше, иначе масло помутнеет от базилика и станет невкусным. (В ее голосе уже тогда недоставало воздуха.) Я заплакал.
* * *14 лет, 11 месяцев, 9 дней
Понедельник, 19 сентября 1938 года
Мне трудно отжиматься. В руках мало силы. Больше десяти раз отжаться не получается. До голодовки я их даже не считал. Пусть я похудею, это мне все равно, но я не хочу терять свои мускулы. Жира-то у меня не так много — терять нечего. Несмотря на нижнее белье, вельветовую рубашку, толстый свитер и папино одеяло, мне все время холодно. Это от голода. Жира становится все меньше, и ты мерзнешь. Виолетт не понравилось бы, что я столько плачу. Перестань, дружочек, ты выльешь из себя всю воду и вконец исхудаешь! Давно-давно, чтобы утешить меня после папиной смерти, она взяла меня с собой на ярмарку, и я, стреляя из лука, выиграл двенадцать кило сахара. Хозяин тира был вне себя от ярости. Да этот паренек первоклассный стрелок, он разорит нас, хватит уже! Мне было всего десять с половиной лет! Мы взяли машину и один пакет сахара отдали шоферу.