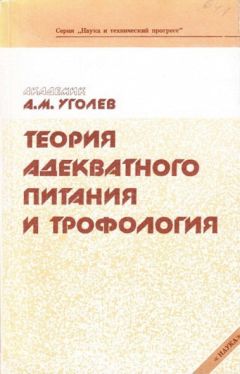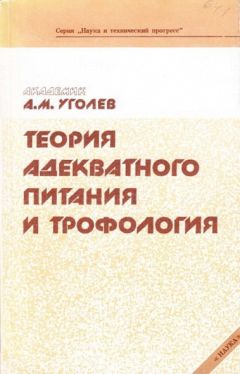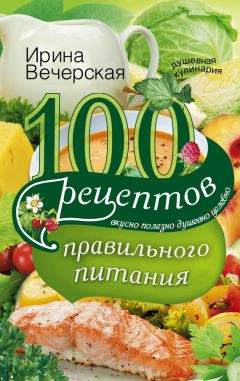Александр Янов - Россия и Европа. 1462—1921- том 1 -Европейское столетие России. 1480-1560
Что же говорит нам это сопоставление? Совершенно ведь ясно, что и впрямь невозможно представить себе два этих древа, европейское и патерналистское, выросшими из одного корня. Поневоле приходится нам вернуться к тому, с чего начинали мы этот разговор. Ибо объяснить их сосуществование в одной стране мыслимо лишь при одном условии. А именно, если допустить, что у России не одна, а две, одинаково древние и легитимные политические традиции.
Европейская (с её гарантиями от произвола власти, с её конституционными ограничениями, с политической терпимостью и отрицанием государственного патернализма). И патерналистская (с её провозглашением исключительности России, с государственной идеологией, с мечтой о сверхдержавности и о «мессианском величии и призвании»).
Происхождение «маятника»
Рецензент упрекнул меня однажды, что я лишь нанизываю одну на другую смысловые ассоциации вместо того, чтобы дать точное определение этих традиций. Я, правда, дал уже такое определение в самом начале этого введения. Но повторю: европейская традиция России делает её способной к политической модернизации, патерналистская делает такую модернизацию невозможной. Тем более, что, в отличие от европейских государств, здесь обе эти традиции более или менее равны по силе. Из этой немыслимой коллизии и происходит грозный российский «маятник», один из всесокрушающих взмахов которого вызвал у Максимилиана Волошина образ крушения мира (помните, «С Россией кончено»?) Если подумать, однако, то иначе ведь и быть не могло. Каждый раз, когда после десятилетий созревания модернизации она, казалось, получала шанс стать необратимой, её вдруг с громом обрушивала патерналистская реакция. Не имело при этом значения, под какой идеологической личинрй это происходило — торжества Третьего Рима или Третьего Интернационала. Суть дела оставалась неизменной: возвращался произвол власти — и предстояло отныне стране жить «по понятиям» её новых хозяев.
Введение
Вот примеры. Впервые политическая модернизация достигла в России критической точки в 1550-е, когда статья 98 нового Судебника, превратила, по сути, царя в председателя думской коллегии. Во второй раз случилось это в промежутке между 1800 и 1820-ми, когда — в дополнение ктому, что слышали мы уже отА.Е. Преснякова, — в числе реформ, предложенных неформальным Комитетом «моло- ДЫх друзей» императора, оказалась, между прочим, и Хартия русского народа, предусматривавшая не только гарантии индивидуальной
свободы и религиозной терпимости, но и независимости суда.44 В третий раз произошло это в феврале 1917 года, когда Россия, наконец, избавилась от ига четырехсотлетнего «сакрального» самодержавия.
И трижды разворачивала её историю вспять патерналистская реакция, воскрешая произвол власти. На самом деле «с Россией кончено» могли сказать, подобно Волошину, и ошеломленные современники самодержавной революции Грозного в 1560-е. И не только могли, говорили. Ибо казалось им, что «возненавидел вдруг царь грады земли своей»45 и «стал мятежником в собственном государстве».46 И трудно было узнать свою страну современникам Николая I, когда после десятилетий европеизации, «люди стали вдруг опасаться, — по словам А.В. Никитенко, — за каждый день свой, думая, что он может оказаться последним в кругу друзей и родных».47 А по выражению Л/1.П. Погодина, «во всяком незнакомом человеке подразумевался шпион»48
Введение
Такова, выходит, тайна загадочного русского «маятника». В какой другой, спрашивается, форме могла воплотиться в критические минуты смертельная конфронтация двух непримиримых и равных по силе традиций — произвола и гарантий — в сердце одной страны? Боксеры называют такие ситуации клинчем, шахматисты — патом. Разница лишь втом, что, в отличие от спорта, оказывались тут на кону миллионы человеческих жизней. Затем, собственно, и пишу я эту книгу, чтобы предложить выход из этого, казалось бы, заколдованного круга.
Разгадка трагедии?
Как бы то ни было, гипотеза о принципиальной двойственности российской политической традиции или, говоря словами Федотова, «новая национальная схема», имеет одно пре-
Aiatole G. Mazur. The First Russian Revolution, Stanford, 1937, p. 20.
Цит. no: A/A. Зимин. Опричнина Ивана Грозного, М., 1964, с. ю.
В.О. Ключевский. Цит. соч., т.з, с. 198.
Цит. по: История России в XIX веке, М., 1907, вып.6, с, 446.
М.П. Погодин. Исто р и ко-политические письма и записки, М., 1874, с. 258.
имущество перед Правящим Стереотипом и вытекающей из него старой парадигмой русской истории: она объясняет всё, что для них необъяснимо. Например, открытие шестидесятников тотчас и перестает казаться загадочным, едва согласимся мы с «новой схемой». Точно так же, как и ликвидация Судебника 1550 года в ходе самодержавной революции. Еще важнее, что тотчас перестают казаться историческими аномалиями и либеральные конституционные движения, неизменно возрождавшиеся в России, начиная с XVI века. Не менее, впрочем, существенно, что объясняет нам новая парадигма и грандиозные цивилизационные обвалы, преследующие Россию на протяжении столетий. Объясняет, другими словами, катастрофическую динамику русской истории. А стало быть, и повторяющуюся из века в век трагедию великого народа. С другой стороны, однако, несет она в себе и надежду. Оказывается, что так же, как и Германия, Россия не чужая «Европе гарантий». И что в историческом споре право было все- таки пушкинское поколение.
Откуда двойственность традиции?
Так или иначе, доказательству жизнеспособности этой гипотезы и посвящена моя трилогия. Я вполне отдаю себе отчет в беспрецедентной сложности этой задачи. И понимаю, что первым шагом к её решению должен стать ответ на элементарный вопрос: откуда он, собственно, взялся в России, этот роковой симбиоз европеизма и патернализма. Пытаясь на него ответить, я буду опираться на знаменитую переписку Ивана Грозного с князем Андреем Курбским, одним из многих беглецов в Литву в разгаре самодержавной революции. И в еще большей степени на исследования самого надежного из знатоков русской политической традиции Василия Осиповича Ключевского.
Введение
До сих пор, говоря о европейском характере Киевско-Новгород- ской Руси, ссылался я главным образом на восприятие великокняжеского дома его европейскими соседями. В самом деле, стремление всех этих французских, норвежских или венгерских королей породниться с киевским князем говорит ведь не только о значительности роли, которую играла в тогдашней европейской политике Русь, но и о том, что в европейской семье считали её своей. Но что, если средневековые короли ошибались? Пусть даже и приверженцы Правящего Стереотипа готовы подтвердить их вердикт, это все равно не освобождает нас от необходимости его проверить. Тем более, что работа Ключевского вместе с перепиской дают нам такую возможность.
Как следует из них, в Древней Руси существовали два совершенно различных отношения сеньора, князя-воителя (или, если хотите, государства) к подданным. Первым было его отношение к своим дворцовым служащим, управлявшим его вотчиной, к холопам и кабальным людям, пахавшим княжеский домен. И это было вполне патерналистское отношение господина к рабам. Не удивительно, что именно его так яростно отстаивал в своих посланиях Грозный. «Все рабы и рабы и никого больше, кроме рабов», как описывал их суть Ключевский. Отсюда и берет начало самодержавная, холопская традиция России. В ней господствовало не право, но, как соглашался даже современный славянофильствующий интеллигент (Вадим Ко- жинов), произвол.49 И о гарантиях от него здесь, естественно, не могло быть и речи. С.О. Шмидт назвал это первое отношение древнерусского государства к обществу «абсолютизмом, пропитанным азиатским варварством».50
Но и второе было ничуть не менее древним. Я говорю о вполне европейском отношении того же князя-воителя к своим вольным дружинникам и боярам-советникам. Об отношении, как правило, договорном, во всяком случае нравственно обязательном и зафиксированном в нормах обычного права. Его-то как раз и отстаивал в своих письмах Курбский.
Отношение это уходило корнями в древний обычай «свободного отъезда» дружинников от князя, служивший им вполне определенной и сильной гарантией от княжеского произвола. Они просто «отъезжали» от сеньора, посмевшего обращаться с ними, как с холопами.
Вопросы литературы, 1969, № ю, с. 117. Вопросы истории, 1968, № 5, с. 24.
В результате сеньоры с патерналистскими склонностями элементарно не выживали в жестокой и перманентной междукняжеской войне. Лишившись бояр и дружинников, они тотчас теряли военную и, стало быть, политическую силу. Короче говоря, достоинство и независимость вольных дружинников имели под собою надежное, почище золотого, обеспечение — конкурентоспособность их государя.