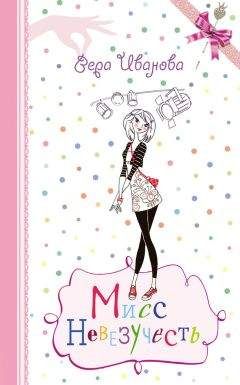Алекс Мустейкис - Experimentum Crucis

Обзор книги Алекс Мустейкис - Experimentum Crucis
Мустейкис Алекс
Experimentum Crucis
Алекс МУСТЕЙКИС
Experimentum Crucis
Он лежал, распростертый на операционном столе, и тысячи датчиков, закрепленных на его теле, высасывали из глубин его драгоценные крохи информации. Провода паутиной расходились в разные стороны, исчезая в недрах десятков сверхмощных вычислительных машин, объединенных в единую сверхсистему, перерабатывающую огромное количество информации для одной цели -- цели Эксперимента. Больше всего датчиков было закреплено на его голове, -- там, под кожей и черепной костью находилось то, чьи тайны человек штурмовал уже не один век. Менялись времена, менялась тактика и техника штурма, но объект исследований слишком хорошо хранил свои тайны и раскрывал их очень неохотно. Нетерпеливые экспериментаторы, желая узнать за время своей жизни как можно больше нового, совершенствовали орудия осады. Самым новейшим из этих орудий и был этот комплекс аппаратуры, созданный совместными усилиями нескольких университетов, и, по замыслу его конструкторов, способный проникнуть за некий барьер, возникший вдруг на пути познания Объекта. О наличии этого препятствия уже давно догадывались некоторые философы, его присутствие замечали отдельные исследователи, обогнавшие свое время, но только с недавних пор основная масса ученых, подталкиваемая требованиями эпохи -как экономическими, так и социальными -- вплотную подошла к границе, словно нарочно закрытой, как будто защищающей заповедную область от вторжения разума.
Человек, лежавший на столе, не чувствовал датчиков. Изо всех чувств, данных ему природой, сейчас остались только зрение и слух, прочие были отключены для чистоты Эксперимента. Человек видел купол операционной, сходящийся вверху в голубой полутьме, видел направленные на него телекамеры, призванные запечатлеть для истории каждую секунду этого грандиозного Эксперимента. Но вот сверху в поле зрения человека вплыло круглое, неестественно синее при этом освещении лицо профессора. Человек отметил, что проф сильно волнуется -- Эксперимент был его детищем, -- и удивился, что способен еще что-то отмечать.
-- Не волнуйся, Мартин, -- сказал профессор. -- Постарайся запомнить как можно больше. Работают все регистраторы, но главное узнаешь только ты. Мы будем активизировать память, но все в конце концов зависит от тебя.
Мартин закрыл и открыл глаза. Это означало: "Не волнуйтесь вы, проф, а я-то сделаю все, что от меня зависит".
Кто-то тронул профессора за плечо. Мартин не видел, кто, да и какое это имело значение?
-- Полторы минуты, Мартин. Счастливого тебе пути... и возвращения. Мар
тин снова закрыл и открыл глаза. "Идите, проф, я есть и буду в
порядке." Мягко хлопнула герметичная дверь. Последние звуки. Медленно гасли лампы, мир погружался во тьму. Последние кванты света. Все. Где-то на пульте за стеной горят и мигают цифры, показывая время до начала Эксперимента. Наверное, сейчас это тридцать секунд. Через тридцать секунд на определенные электроды поступят определенные сигналы, бесшумно стекут с платиновых игл и растворятся внутри его, Мартина, сознания, внутри памяти, внутри его несложных мыслей, которые, словно нехотя, медленно плывут по лабиринтам Объекта в то самое время, когда истекают последние мгновения.
..............................
Старт! В мозг ворвалась лавина сверкающих звуков и грохочущих ароматов, пронзительных вспышек и тяжелых, давящих, ни на что не похожих вкусовых ощущений. Мысли вырвались из своего храма, где они обитали много темных тысячелетий, рассыпчатым цветным фонтаном ринулись в поднебесье, и, не найдя там ничего интересного, желтыми листьями мягко опустились на землю. Налетел свежий, пробирающий до костей ветер, взметнул листья в воздух и понес их вдаль, к белым вершинам гор, виднеющимся сквозь туманную дымку на горизонте.
Мартин стоял в осеннем парке. Это была та унылая пора, когда еще не сверкает снежное великолепие зимы, и уже не радует глаз разноцветный осенний наряд деревьев. Листья уже все лежат под ногами, легкий морозец подернул лужицы тонким зеркалом льда, а солнце, несмотря на полудень, не собирается подниматься в безоблачном, светло-голубом небе выше последних, одиноко дрожащих на порывистом холодном ветру желто-коричневых листочков клена.
Листва уютно шуршала под ногами. Сегодня, выходя из дома, Мартин накинул на плечи легкую, уже явно не по погоде, куртку, и теперь каждый порыв ветра пронизывал ее насквозь, давая понять, что теплые дни позади и пора более внимательно следить за погодой.
-- Такая погода чрезвычайно располагает к философским размышлениям, -раздался за спиной Мартина знакомый голос. Мартин обернулся.
-- Вы правы, проф. И погода, и весь этот вид, -- Мартин обвел рукой вокруг, -- все это наводит на мысль, что все преходяще, за любой весной следует лето и осень...
Профессор усмехнулся.
-- Ты не совсем верно провел аналогию с закономерным концом любого бытия, Мартин. Природа скорее намекает нам на цикличность всех ее явлений, на то, что рано или поздно все возвращается на круги своя, а вовсе не на то, что под луной ничто не вечно.
-- Пусть так. -- Мартину вообще не хотелось говорить, ему хотелось просто созерцать это медленное, торжественное увядание природы.
-- Природа обновляется каждый год, -- продолжал профессор, -- а человек рождается и умирает только один раз. Это банальная истина, но именно она приходит мне в голову при наблюдении такого явления природы, как осень. Наше мышление соответствует нашей жизни -- родиться, чуть-чуть пожить, состариться и умереть, -- и поэтому это время года так печально действует на нас. Мы видим в нем аналог нашей старости, времени подводить итоги нашего земного бытия, обобщать увиденное на жизненном пути сквозь весну и лето, вспоминать все былое, так сказать... Если бы мы жили вечно, то радовались бы осени, ведь за ней период стирания ненужной информации -- зима, и время следующего рождения -- весна. Ведь радостен для нас только миг ожидания больших перемен...
Воркотня профессора вдруг притихла и удалилась на второй план. Вдали, по ковру опавшей листвы, между белыми стволами берез, шла какая-то фигурка -- и ее вид, походка, и еще что-то неуловимое, -- пробудили в глубине души Мартина давние воспоминания, неясные, смутные тени, ощущение чего-то давно ушедшего, утерянного во тьме лет захлестнуло Мартина, и он, спотыкаясь, побежал навстречу.
-- Мама! -- и он уткнулся своей маленькой, коротко стриженой головой ей в грудь, слезы радости от случайной встречи текли по его лицу. Вокруг ходили люди, они задевали их, толкали своими чемоданами, гул их голосов сливался с гудками паровозов, а он все стоял, прижавшись к самому дорогому, самому-самому, что было у него в жизни, и его уши слышали среди всей вокзальной какофонии легкий шепот: "Мартин... сынок мой..." Потом они вышли из вокзала, шли по переходной дорожке над ревущей, мигающей тысячами огней автомагистралью, он держал маму за руку, в его душе звучала музыка удивительного тепла и спокойствия, а в голове неслась странная круговерть воспоминаний. Какая-то незнакомая темная комната, еле освещенная потрескивающей лучиной, зажатой в страшном, похожем на большого железного паука устройстве, сырые стены, маленькое окошко, в которое ничего не увидишь, еще один тлеющий огонек слева вверху, перед странными картинками в поблескивающей оправе, выползающая сбоку громада печи, еле различимая в полутьме. Мать сидит на потемневшей от времени и копоти лавке, он, почему-то девочка, совсем маленькая, держит ее за подол, они вместе смотрят на приоткрывающуюся дверь, где в клубах пара и холода возникает что-то мохнатое, шевелящееся, и это что-то сбрасывает тулуп, пахнущий морозом и лошадью, садится на противоположную лавку, положив громадные кулаки на стол, сверкая из-под лохматых бровей белками глаз, и говорит басом: "Ну что, мать, жрать сготовила?"
Потом какой-то неуловимый переход, и они все вместе -- он, отец и мать -- на берегу реки. Зеленый луг высоким -- выше роста отца -- обрывом переходит к небольшому пляжу. Они располагаются на траве, там, где обрыва почти нет, но ему хочется взобраться на самый верх, подойти к самом краю и смотреть вдаль, -- за рекой до самого горизонта тянутся зеленые пушистые поля, разделенные кое-где гребнями лесополос. А если повернуться назад, то видны опять поля, но на самом пределе видимости, у горизонта, подернутые синим дымком, виднеются трубы и шары химического завода, чуть левее -- девятиэтажки города. Они играют втроем в мяч, и он часто выигрывает, потом купаются, загорают, снова играют... Он сидит на самом краю обрыва, свесив ноги, только потому, что это ему не разрешают, и видит в чистом, голубом, бездонном небе плывущую точку. Он еще успевает подумать -- что это, птица или самолет, -- как точка вырастает, превращаясь в нечто, и это нечто с крылатой стремительностью, пышущее пламенем, в злобном металлическом оскале проносится над ним. Воздушный вихрь сбрасывает его с обрыва на пляж, и почти сразу все вспыхивает. Зеленые поля, гребешки лесополос -- все заливает нестерпимо яркий, нечеловеческий свет, в котором деревья сгорают, как спички, потом земля вздрагивает и падает на него сверху. И все дальнейшее, словно испугавшись жуткого зрелища, видится непонятными отрывками, вот он выбирается из-под обвалившегося обрыва, плачет, зовет маму, стараясь не взглянуть туда, куда смотреть ни в коем случае нельзя, вот в багрово-черном небе беззвучно возникает вертолет, и вот он уже смотрит из иллюминатора на дымящиеся развалины, на то, что недавно было городом и заводом, -- и все опять уходит в черную глубь, где нет ни крупицы света, ни малейшего звука.