Неизвестно - Столяров А. Мы, народ...
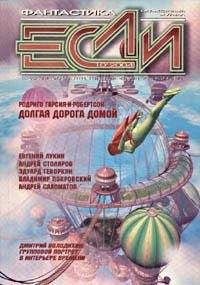
Обзор книги Неизвестно - Столяров А. Мы, народ...
Андрей Столяров
Мы, народ…
1. Вчера
В Южной Сибири
— Манайская? — спросил майор, прищурившись на желтую этикетку.
— Манайская, — слабым, как у чумного, голосом подтвердил Пиля. Он примирительно улыбнулся. — Где другую возьмешь? Автолавка у нас когда в последний раз приезжала?..
— А говорят, что, если манайскую водку пить, сам превратишься в манайца, — сказал студент. — Мне Серафима рассказывала. Вытянешься, похудеешь, как жердь, глаза станут белесыми…
Ему мешал камешек, впивающийся в отставленный локоть. Студент, извернувшись, нашарил его щепотью пальцев, выковырял из дерна, лениво отбросил. Теперь под локтем ощущалась слабая тревожная пустота, уходящая, как представлялось, в глубину земных недр.
Оттуда даже тянуло холодом.
Он передвинулся.
Пиля вроде бы обрадовался передышке.
— Чего-чего? — спросил он, как клоун, скривив в гримасе тряпочную половину лица. — Чтобы от водки — в манайца? Сроду такого не было! Ты хоть на меня посмотри… Вот если колбасу их синюю жрать, огурцы, картошку манайскую, кашу их, тьфу, пакость, трескать, как Серафима твоя, три раза в день…
— И что тогда?
— Тогда еще — неизвестно…
Он отдышался, поплотнее прижал бутылку к груди, скривил вторую половину лица так, что оно приобрело зверское выражение, свободной рукой обхватил пробку, залитую коричневатой смолой, и крутанул — раз, другой, третий, с шумом высвистывая сквозь зубы прелый горячий воздух.
Ничего у него не получалось. Пальцы лишь скользили по укупорке, как будто она была намазана маслом.
— Вот хрень!.. Так ее так!..
— Дай сюда, — грубовато сказал майор.
Это был крепкий, точно из железного мяса, мужик, лет сорока, судя по пятнистому комбинезону, так внутренне и не расставшийся с армией, совершенно лысый, не бритый, а именно лысый: череп от ушей до ушей выглядел полированной деревянной болванкой. Его легко можно было представить среди дымных развалин — пробирающегося с группой бойцов по обломкам человеческого жилья: шорохи, звездное небо, глазницы выбитых окон… Чувствовалось, что он все делает основательно. Вот и теперь, не говоря лишнего слова, он отобрал у Пили бутылку, которую тот тщетно терзал, без малейших усилий свинтил пробку, издавшую жестяной пронзительный писк, поставил перед каждым толстый стакан, а затем взвесил бутылку в руках и, прищурясь, видимо, чтобы поймать нужный настрой, разлил в каждый ровно по семьдесят грамм.
Его можно было не проверять.
— Вот так.
Все уважительно помолчали. И только студент, если, конечно, правильно называть студентом кандидата наук, человека двадцати восьми лет от роду, уже четыре года старшего научного сотрудника Института истории РАН, полушутливо-полусерьезно сказал:
— Сопьюсь я тут с вами…
Майор будто ждал этого высказывания. Он повернулся к студенту — всем корпусом, с места тем не менее не вставая, — и вытянул, точно собираясь стрелять, твердый, как штырь, указательный палец.
— А потому что меру во всем надо знать, ёк-поперёк, товарищ старший лейтенант запаса!.. У нас в училище подполковник Дроздов так говорил. Построит нас на плацу, после праздников, выходных, сам — начищенный, морда — во, фуражку подходящую для него не найти, и говорит так, что полгорода слышит: Тов-варищи, будущие офицеры!.. Есть сведения, что некоторые из вас сильно злоупотребляют. Тов-варищи, будущие офицеры, ну — не будем, как дети!.. Все пьют, конечно. Ну — я пью. Ну — вы пьете… Но, тов-варищи, будущие офицеры! Выпил пол-литра, ну — оглянись!..
Он обвел всех немигающим взглядом. Точно проверяя, усвоены ли его слова. Выдернул из дерна стакан, и остальные тоже, как по команде, повторили его движение.
— Ну, за то, чтобы вовремя оглянуться!.. За единство и равенство всех социальных сословий!.. Крестьянства, — он поглядел на Пилю, который немедленно приосанился. — Рабочего класса, — Кабан, до сих пор молчавший, неопределенно хрюкнул. — Нашей российской интеллигенции, — взгляд в сторону терпеливо ожидающего студента. — И российской армии, которая была и будет советской!.. Чтобы никакой дряни на нашей родной земле!..
Одновременно с этим майор, видимо, еще раньше высмотрев то, что ему мешало, двумя пальцами выщипнул из горячего дерна кривоватую маленькую “желтуху” — не распустившуюся пока, всего с четырьмя крохотными лепестками — и, брезгливо покачав ею в воздухе, отбросил в сторону.
Все посмотрели, как она легла среди трав.
— Прирастет, — жизнерадостно сказал Пиля.
И действительно, “желтуха” лишь на мгновение замерла поверх елочек кукушкина льна, а потом, как червяк, изогнулась упругой дугой и просунула тоненький корешок — вниз, к влаге, к земле.
Тогда майор, побагровев всем лицом, снова нагнулся, взял “желтуху” за усик, точно какое-то насекомое, и перебросил ее на утоптанную тропу, которая спускалась к реке.
— Теперь не прирастет, ёк-поперёк!..
Попав на высохшее изложье, “желтуха” вновь судорожно изогнулась, повела туда-сюда, ища, за что закрепиться, нитчатым корешком, не нашла, не сумела протиснуться и, вероятно, исчерпав слабые силы, обмякла под солнцем. Листья ее вдруг резко поникли, стебель, повторяя неровности, прильнул к жесткой земле. Миг — и она расплылась в мутную вермишель, которая, на глазах высыхая, неразличимой корочкой прилипла к песку.
Студент, хоть уже не раз видел такое, замотал головой.
Пиля — поежился.
Даже Кабан как — то негромко вздохнул.
— Ёк-поперёк!.. — с чувством сказал майор. — Вот ведь з — зараза какая… Ну, ничего. Праздника они нам не испортят…
Первая прошла, как всегда. Студенту она легла внутрь едкой пахучей тяжестью, готовой от любого движения вскинуться и выплеснуться через горло наружу. Пилю вообще передернуло: выбросило вперед руку и ногу, как будто они сорвались с петель. Он так и повалился на землю. Даже майор выдержал с некоторым трудом — сморщился, сдавленно жмекнул, осторожно втянул воздух ноздрями. Сощурился так, что глаза его превратились в темные щели. Стакан он, впрочем, вернул точно на место. И только Кабану было все нипочем: запрокинул голову, спокойно вылил свои семьдесят грамм в жаркий рот, пожевал язык, кивнул несоразмерно большой, в твердых выступах головой и выдохнул лишь одно слово:
— Нормально…
Ничего другого от него никто никогда не слышал.
С пригорка, где они расположились, была хорошо видна вся деревня: десятка полтора изб, окруженных покосившимися заборами; причем истлевшие их пролеты кое-где уже повалились, и перейти с одного двора на другой не составляло труда. Не лучше выглядели и сами избы: тоже перекосившиеся, вросшие в бугристую землю, походили они на корни сгнивших зубов, в беспорядке торчащие из омертвевающих десен. Впечатление усиливали сизые струпья на бревнах и провалы крыш, кое-как залатанные жестью или фанерой. Толку от такого ремонта не было никакого. В Серафимином доме, скажем, где студент обитал, сполз целый угол, накрывающий дальнюю комнату: при дожде на покоробленных половицах образовывались длинные лужи, потом они просачивались в подвал и превращали земляной пол его в жидкую грязь. Хотя в подвал Серафима уже давно не заглядывала. И что мне тама, милый, хранить?.. В доме из-за этого чувствовалась неприятная сырость.
Тем сильнее выделялись средь запустения фазенды манайцев. Несмотря на обилие травяного пространства, совершенно пустынного, распахнутого аж до реки, манайцы предпочитали селиться поближе друг к другу. Сказывалась ли в том боязнь перед непредсказуемостью местного населения, которое косо поглядывало на чужаков, или многовековая традиция: в самом-то Манае берегли каждый клочок земли, но только игрушечные, всего в одно окно домики лепились, как соты, образуя посередине деревни единый массив. Набраны они были из тонких жердочек, каким-то образом скрепленных между собой, и потому желтели на солнце, точно бамбук. Непонятно было, как там манайцы помещались внутри. Хотя что манайцу? Никаких особых запросов у манайца вроде бы нет. Бросил на пол циновку, сплетенную из травы, и — ложись. Неизвестно, впрочем, есть ли там даже циновки. К себе, внутрь поселка, манайцы никого из местных не звали. А просто так, без приглашения, туда тоже не попадешь: по всей границе массива, как стена, разделяющая пространства разных миров, тянулась вверх мощная манайская “лебеда”. И хоть выглядела она на первый взгляд вполне безобидно: те же зубчатые, гладкие листья, те же, по верхам гибких метелок, пузырьковые наросты пыльцы, однако даже прикасаться к ней было опасно. Студента предупредили об этом в первый же день. Уже через минуту почувствуешь на коже сильное жжение, а через час вся ладонь будет обметана громадными коричневыми волдырями. Кожа потом слезет с нее, как перчатка. Самим же манайцам, видимо, никакого вреда. Шастают туда и сюда, не обращая внимания. Жаль, конечно. Студенту очень хотелось бы рассмотреть поближе манайские огороды: диковинные, хрупкие на вид конусы, сквозь плетенку которых свешивались ярко-синие вытянутые плоды. Местные жители называли их “огурцами”. Там же — крепкие “тыковки”, размерами не больше детского кулака, и совсем уже ни на что не похожий мягкий белолиственный “виноград”, осыпанный продолговатыми ягодами. Внутри каждой ягоды — вязкая сладкая мякоть; говорят, съешь гроздь, и все, взрослому человеку хватает на целый день.



