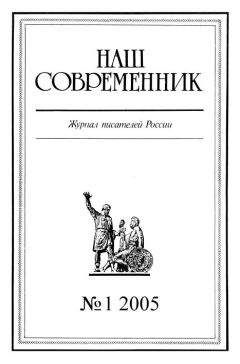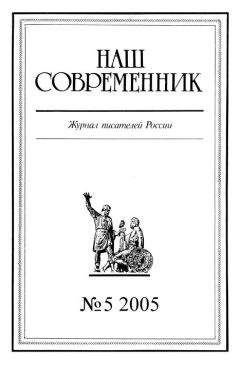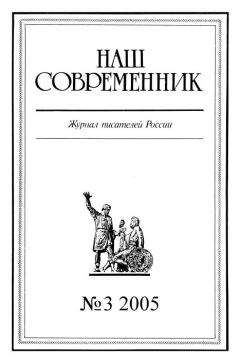Журнал «Наш cовременник» - Наш Современник, 2002 № 03
Я с ужасом открываю глаза и поворачиваю голову. Но, к своему изумлению, вижу перед собой не Шефа, а Серегу Ефошкина, в темно-синем, словно с шефского плеча, костюме с золотыми пуговицами, в галстуке, в длинной, до пят, шубе с огромным воротником и красным шарфом вокруг шеи, поддерживающим смоляную бороду. Серега с ненавистью, презрением и злобной радостью смотрит на меня, сдвинув брови, сверля черными сливами глаз:
— Какая же ты скотина, Шаньков! Такой, как ты, не может быть художником. Позор! Пока Россия гибнет, ты сладенько посапываешь! Ну-ка, отдай сюда краски и кисти. И карандаш отдай. Это оружие в борьбе за Россию мы вручим другому — достойному. А ты — пошел вон! Забудь дорогу в мастерскую! Такую сволочь, как ты, нужно в газовую камеру!..
Я потею. Меня начинает мелко трясти. Из последних сил и с остатками надежды ищу глаза Шефа. Но Глазунов, как-то весьма комфортно раскинувшись в кресле, весело наблюдает за происходящим, а остальные, вдавив головы в плечи, втихомолку ждут, чем все это кончится. Шеф хрипло кричит, почти рычит:
— Дай-ка ему, Сереженька, чтобы не забывался!..
Ефошкин одобрительно кивает, выслушав совет Шефа, а потом, как в замедленных съемках, размахивается и со всей силы бьет меня в челюсть…
В ужасе открываю глаза. Господи! Счастье-то какое! Оказывается, это я просто спал и во сне ткнулся подбородком о стол…
— …Сильный стремился властвовать, а для этого нужно было убить вожака — других путей не имелось. И мало того — съесть его мозг. Так шла эволюция… Ну, я думаю, на сегодня хватит. В следующий раз поговорим о путях развития философии на примере «Афинской школы» Рафаэля…
Провожать Глазунова, Скурлатова и Литвинского высыпаем всей гурьбой на ступеньки института. Мэтры садятся в «мерседес», Шеф опускает стекло и машет нам рукой. Мы вытягиваемся, благодарно улыбаясь, и тоже машем Шефу.
— Во глазунята стелятся перед Глазуном! — восхищенно-ядовито цедит сквозь зубы пьяный Монгол своему приятелю. Оба из королевской мастерской.
Мы опаздываем с реакцией. Мы ошеломлены. Слишком неожиданным получился удар для наших распахнувшихся, не готовых сейчас к нападению душ.
Шеф, видимо, услышав наглую фразу, секунду разглядывает нас, а потом говорит на прощанье:
— Раньше, в Императорской Академии, в форму входили шпаги. Каждый мог тут же пронзить нахала. Сейчас — нет. А жаль. Но тем не менее есть кулачок, который ни у кого не отняли. Он тоже может быть острым, как шило…
Ревет мотор, и «мерседес» с места рывком улетает по Товарищескому.
— Чего там Глазун загнул? — не въезжает Монгол.
— Не суетись, брат. Пойдем-ка лучше за уголок. Я тебе переведу, что сказал Глазунов, — спокойно и тихо говорит представителю братского народа Клименко. Но видно, как на его широком лице резко проступили красные пятна, а усы встопорщились, как у кота перед прыжком.
— Подождите здесь, мужики. Я скоренько…
— Че ты выступаешь, а? Ну, пошли, давай, я тебя мигом уложу, — рыпается Монгол, удаляясь с Андрюхой за угол.
Через минуту Андрей возвращается, с досадой покачивая головой.
— Каратист какой-то попался. Ногой стал размахивать. Ну его…
— А где он? — спрашиваем мы.
— Отдохнуть прилег…
Вечер. Часов десять уже. В институте давно никого. За дверями нашей 201-й мастерской раскидываются пустынные лабиринты коридоров и мастерских. У нас светло. Горит все, что должно гореть: и лампочки, и софиты, и обогреватели, и сигареты в выпачканных краской пальцах.
— Митька — гад. Опять этюдник свой не убрал! — добродушно ворчит Клименко. — Я его когда-нибудь выброшу…
— Кого? — сидя перед холстом, не оборачиваясь, весело спрашивает Сидоров.
— Ящик белюкинский! А можно и Митьку тоже! — хохочет Андрей.
— Эй, дуст, попозируй немножко, — умоляет Лешка Солдатов Андрюху Герасимова.
— Да ну тебя, дуст! Сейчас как начнешь, потом от тебя не отвертишься.
— Чуток и нужно-то. Мне только поглядеть складки. А я потом тебе постою, — завлекательно поет Лешка.
— Ладно. Только уж напрягись, побыстрей давай, — обреченно соглашается Герасимов.
После занятий почти всегда и почти все остаемся в мастерской. А куда еще идти нам, ведь другого места, где мы можем писать, ни у кого из нас пока нет. Общажной братии легче — переполз тропинку, и ты уже в койке. Они засиживаются глубоко заполночь, а то и вообще остаются ночевать в мастерской, на подиумах для натурщиков, укрываясь драпировками. Тем, кто живет на стороне, как мы с Наскаловым и Поляковым, приходится торопиться до закрытия метро, не то попасть в комнату, что мы снимаем в коммуналке возле китайского посольства, не удастся.
Один Митя Белюкин — счастливчик. После занятий он едет на Чистые пруды, в мастерскую отца, московского художника книги Анатолия Ивановича Белюкина. Там прекрасно, как в раю. Там к потолку тянутся полки с альбомами по искусству, там и маленькая кухонька, и туалет с душем, и письменный стол. Не очень развернешься, зато один на один со своими мыслями. Нет, мы не завидуем Мите. Он не такой, как многие балбесы — дети художников, выросшие у мольбертов своих отцов, пролезшие не без их помощи в институт, не хлебнувшие той суровой доли, что мы, иногородние, никому не нужная масса, заявляющая о своих правах на жизнь в богеме. Митя трудолюбив и плодовит. Пашет как зверь. Изо всей суриковско-московской циничной братии Митя — один из немногих исключений.
Без пятнадцати час я убегаю к метро, чтобы попасть на Большую Бронную к моей Анечке, с которой мы снимаем комнату уже с осени, со дня нашей свадьбы. Выбегаю на «Пушкинской», спешу меж фонарей по мокрой пустынной улице, зная, что она еще не спит, беспокоится, ждет.
Утром встаю пораньше. Должен прийти Вадим, наш натурщик. С восьми до девяти мы закручиваем его как хотим — для анатомии.
Клименко сидит в шефском ампирном кресле с черными кругами под глазами, а в опущенной беспомощно руке тлеет забытая беломорина. Через всю мастерскую — огромный холст, что вчера, помнится, был белым, а теперь весь записан. Там и дуб, и кот ученый, и русалка свесила с ветвей свой хвост, а внизу в самых причудливых позах спят богатыри.
— Ух ты! Андрей, что это?
— А… Халтуру для детского садика замочил, — устало улыбается Клименко.
Да! Так мог только Андрюха: взять и рвануть с места и до конца. А потом, через пару дней, сказать, что это все не то и пинком пробить холст насквозь.
— Иди поспи, — с уважением советую я.
— Сейчас Вадим придет — работать будем. Мне надо рисуночек мочкануть для одной фигуры.
— Пожалей себя, отдохни.
— Отдыхать, как говорит Шеф, на том свете будем, — грустно-добродушно усмехается Андрей.
На обед не идем. Натурщик Вадим обещал нам лекцию о Ницше, ибо он читал его на немецком. Это у нас он натурщик, а раньше преподавал в университете философию, да его оттуда выперли в дурдом. Так что работать ему больше негде.
Вадим садится на подиум, скрещивает пухлые ножки в трениках, вешает на шею наручные часы без ремешка, на веревочке, вертит головой в толстых очках. На его майке — смешная рыбка, очень любимая Вадимом… Начинает своим оперным басом:
— Ницше, как и многие гении, страдал параличом центральной нервной системы. Ему пришла мысль отпраздновать свое совершеннолетие в публичном доме, где он и заразился сифилисом, подобно вождю нашего племени Ленину. У того тоже произошло остекленение сосудов головного мозга, что не мешало ему, однако, бешено трудиться. Болезнь Ницше способствовала своеобразным озарениям, колоритным откровениям философа…
После интересной лекции бежим в общажную столовку, наскоро кидаем в клювы чуть тепленькие беляши, запиваем их полусладким чаем и снова — в мастерскую. Опять сидит Женечка на своем стуле, помещенном на большой деревянный куб, сбитый из толстенных досок. Серебристый свет из окна волшебно лепит Женечкины черты, еле уловимо струится по складкам, вспыхивает на нежной кисти руки и тихо гаснет где-то у ног. Из коридора слышен уверенный стук приближающихся каблуков. Настежь распахивается дверь, и в проеме показывается голова Шефа:
— Все на месте?..
Лектор
Только что вернулись из Нью-Хейвена, где я засадил-таки лекцию в университете. Примчались туда ровно в одиннадцать. До выступления оставалось полтора часа. Сошлись с деканом и приготовили иллюстративный материал в просмотровом зале. Традиционные два мольберта — по углам, и «Засадный полк» — в центре, под экраном. Семьдесят пять слайдов в эпидиаскопе. Слайды делал Джефф, друг Дика, отличный парень, кроме него над этой проблемой трудились — Скотти, в Вашингтоне, и Бейли, наша соседка, в своей библиотеке. Я подобрал сногсшибательный материал, сработанный на контрасте прошлого величия школы живописи в Европе и ее теперешнего жалкого состояния. За десять минут до лекции мы (потные, как боксеры на ринге) установили обтянутый «Засадой» подрамник и пошли курить. Директор школы мистер Пис встретил нас в коридоре, и я поблагодарил его за гостеприимство. Потом декан представил меня собравшейся публике — присутствовало человек двадцать пять, студенты и преподаватели. Обо мне было сказано, что я мастер батального исторического жанра и книжный иллюстратор. Я выступил вперед и начал говорить. Публика точно оцепенела, не знаю, потому ли, что плохо меня понимала, или оттого, что лекция выглядела слишком необычной для взращенной на авангарде публики. Я маленько приободрился, когда они из темноты (свет погасили для слайдов) загоготали дружно на мою первую шутку. Впрочем, я не обращал на них никакого внимания. Я лишь старался высказать все, что накопилось. Звучало это так: