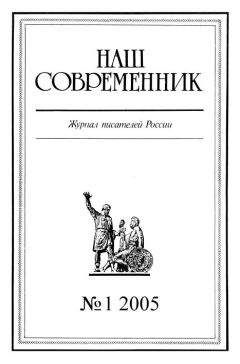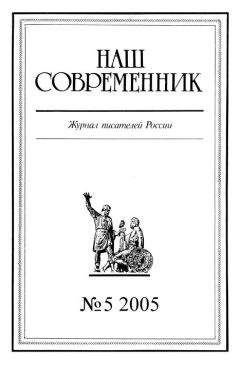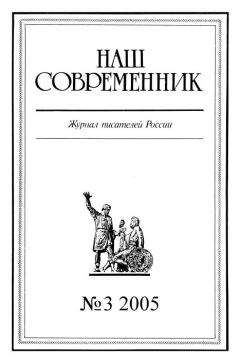Журнал «Наш cовременник» - Наш Современник, 2002 № 03
Возмездие, несравненно более масштабное, становится событием последних лет в связи со всемирной интернетной горячкой, информационным бумом конца ХХ — начала ХХI веков. На эту тему интересно послушать человека, который сам в течение долгой творческой жизни приложил колоссальную энергию для апологетизации технотронного мифа. Речь идет о польском писателе-фантасте Станиславе Леме. Престарелый автор, надо отдать ему должное, никогда не был односторонен в своих футурологических выкладках. В равной мере Лем обладал умением пугать читателей инопланетными или земными технохимерами и прельщать их картинами грядущего идеального бытия, обеспеченного мощью коллективного научного гения. И все-таки в последние времена Лем, размышляя об искусственном интеллекте, больше пугает и предостерегает, чем обнадеживает. В некоторых своих высказываниях, посвященных буйно процветшему Интернету, писатель и сам выглядит если не напуганным, то весьма озадаченным.
Нынешнее качество информационной деятельности человека поставило на повестку дня, — предупреждает он, — «небывалый размах преступности нового типа. Это электронные войны, компьютерные преступления. Подслушивание, подглядывание, шифры, борьба с компьютерным шпионажем и компьютерными взломщиками-хакерами…» (Коммерсантъ. ДЕНЬГИ. № 36,12 сентября 2001. Против Лема нет приема, с.86).
Могут сказать, что Лем не оригинален. Что он напоминает интеллектуала, проснувшегося после длительной заморозки. Если это отчасти и верно, все равно мнение фантаста-философа, даже слегка запоздавшего со своими выводами, ценно. Уже тем ценно, что подтверждает суждения более радикальных мыслителей, давно обеспокоенных технологическим перегревом планеты. Поэтому в устах Лема свежо и дерзко звучат парадоксы из репертуара московских кухонных софистов, отзвучавшие лет двадцать тому назад, например такой: «Иногда мне начинает казаться, что не человек произошел от обезьяны, а обезьяна от человека (! — Ю. Л.). Ей, обезьяне, что нужно? Есть да смотреть на мир. Потребности разговаривать, думать, читать у нее не возникает. Так и мы со своими телевизорами, разнообразными спутниковыми тарелками только и делаем, что едим и тупо смотрим на экран».
Молодец, старина Лем!
Впрочем, груз пережитого и опубликованного не позволяет польскому коллеге быть безоговорочно отважным в своей критике: «Будущее представлялось мне в неоправданно возвышенном виде; быть может, теперь я ударился в неоправданно глубокий пессимизм, смотрю сквозь слишком зачерненные стекла». Но сколько ни подстилает себе польский мудрец соломки, главный его, итоговый вывод-образ уже прозвучал, и мы вправе его осмыслять без оглядки на сопутствующие ему реверансы: «Недобрые последствия короткого информационного замыкания Всего и Всех со Всеми для меня очевидны, хотя свои предчувствия я не могу подкрепить достаточно мощной батареей доводов».
Вот так: «короткое замыкание Всего со Всем и Всеми». Иными словами, всемирная катастрофа, «недобрые последствия» которой, кстати, уже некому будет каталогизировать.
Продолжение следует
А пока я продолжаю свое антипапараццистское разыскание, радуясь, как глотку свежего воздуха, каждому проявлению зреющего в России отпора. Вот, к примеру, не так давно уважаемый мною певец Николай Расторгуев вместе с актрисой Ольгой Дроздовой, которых желтая пресса накануне активно «сватала», показали ее представителям «фигурную композицию», то есть кулаки:
«Увидев, что музыкант радушно распахнул объятия кинозвезде, к парочке бросились папарацци. Однако пыл их был остужен тяжелым взглядом Николая. „Не люблю я папарацци“, — мрачно заметил певец. „Наверное, опять напишут что-нибудь такое…“ — с улыбкой вздохнула актриса. А спустя три минуты, немного посовещавшись, Расторгуев и Дроздова явили публике фигурную композицию „Нет желтой прессе!“» (ТВ ПАРК, № 47, ноябрь 2001 г.)
А вот еще пример сопротивления наглому щелкоперишке. Сотрудник некогда бодрой, а ныне срамной «Комсомолки» задался целью выведать: «От кого беременна Наташа Королева» (крупный заголовок на первой странице «Комсомольской правды» от 24–31 дек. 2001 г.) — от своего мужа или от некоего московского стриптизера (что еще за профессия такая?) по кличке Тарзан. Ничего папарацци не выведал, певица сказала, что вообще на журналистские наветы предпочитает не отвечать, чтобы не давать повода для новых покушений. Это, конечно, более пассивная форма сопротивления, чем у мужественного Расторгуева и отважной Дроздовой. Но ведь певица, действительно, готовится стать матерью и не хочет лишний раз волноваться. Другое дело, и ее муж, и тот же Тарзан, если он все же мужик, а не раздевальщик-себя-на-публике-догола (по-моему, именно так стоит переводит стриптизера на русский), могли бы, поплевав на ладони, хорошенько отвалтузить двух-трех-четырех гнилых и слюнявых подглядчиков. Чтобы и другим неповадно стало.
Надо с женщин пример брать. Вот родная сестра Василия Шукшина Наталья Макаровна взяла и отчитала прилюдно автора книги «Потаенная любовь Шукшина» в открытом письме «У правды есть глаза» («Советская Россия», № 127, 1 ноября 2001 г.)
Это еще даже не цветочки. Это лишь первые росточки зреющего повсюду протеста. Его символом могла бы стать пятерня, закрывающая телеобъектив. Вы обратили внимание, как часто-часто замелькала на экранах эта народная выразительная пятерня: «Папарацци, закройся!»? Знать, что-то будет.
Отечественный архив
В этом месяце исполняется 80 лет со дня рождения замечательного поэта, фронтовика, постоянного автора «Нашего современника» Федора Григорьевича Сухова.
К юбилею нашего друга мы публикуем неизвестные стихотворения и два письма из его архива.
МОЛИТЕСЬ, ЖЕНЫ, ЗА РОССИЮ!
Растаял лед войны холодной,
Приспущенный приподнят стяг.
А мой народ полуголодный
У неизвестности в гостях.
На перепутье, на распутье
Стоит поникший богатырь.
Ах, что-то будет, что-то будет, —
Уходят жены в монастырь.
Стеной кирпичной ограждают
Себя от суеты сует,
Уже не Александру — Дарью
Занявшийся бодрит рассвет.
А, может статься, Ефросинью
Тревожит ранняя заря.
Молитесь, жены, за Россию,
Ее храните соловья!
Воробушка ее храните,
Дождит свой щебет воробей,
Связующие держит нити
Возросший во поле пырей.
К дорожной обочи подходит,
К ее шагает пустырю,
В моем возносит огороде
Свою тишайшую зарю.
Малиново благоухает
На мглистой павечери дня
И опевает петухами
Российских пашен зеленя.
Принимает крещение Матушка-Русь,
Входит в воды Днепра, в Иордан она входит.
Утра раннего светлая-светлая грусть
Теплит ладан росы на ветвях в огороде.
Поднимает Спаситель Свой солнечный лик,
Высоко-высоко приподнялся Спаситель!
Сладким медом молочно белеющих лип
Дышит древнего Киева сумрачный житель.
Гром, ворочаясь, гневно торопит себя,
Волочит на Подол, на его луговину.
Ива-ивушка, блекло светясь, серебрясь,
Освежает, бодрит молодую калину.
Подзывает, зовет молодую княжну,
Погружается в воду княжна Зориславна,
Замирает, как будто отходит ко сну,
Невеликая не шелохнется дубрава.
Утра раннего светлая-светлая грусть
Теплит ладан росы на ветвях в огороде,
Принимает крещение Матушка-Русь,
Входит в воды Днепра, в Иордан она входит.
Приобщает свой лик к лику вечной любви,
К милосердью ее неизбывной печали,
Потому, не стихая, трещат воробьи,
Липнут липы к повитой туманом Почайне.
Легкий заморозок прихватил
Бусёнки вчерашних каплюжин,
Посошком своим поколотил
По стеклу невеликих калужин.
По куржавой лужайке стучал,
Колотил на заре воробьиной,
У забытого мною ключа
Повстречался с калиной, с рябиной.
А калина пунцово-красна,
А рябина все млеет, все рдеет…
Есть и в осени… Есть в ней весна,
Есть синичка на тоненьком древе.
На орешине тешит себя,
Подает голосок невеликий,
Волоокая стынь сентября
Угощает своей ежевикой.
Вся в кухте она, в инее вся,
Угощайся, синичка-сестричка!
Заплутавшего радуй лося,
Грей лису, воспылавшая спичка!
Как зажженная спичка — горит
Лист останный на сгибшей осине,
И рябина красно говорит,
О моей повествует России.
И калина пунцово-красна,
Утро раннее празднично рдеет…
Есть и в осени… Есть в ней весна.
Есть синичка на тоненьком древе.
Глас вопиющего в пустыне,
А может, не в пустыне, нет,
Не верится, что хизнет, стынет,
Наш белый леденеет свет.
Не леденеет, свято верит
Душа душе, рука руке,
И возглаголят даже звери
На человечьем языке.
Вороний неумолчный грай
Дождится черным листопадом, —
Обещанный всесветный рай
Кромешным обернулся адом.
Глашатаи всесветной лжи,
Они хотят еще уверить,
Что васильки цветут во ржи,
Что райские открыты двери.
Идущие — придут, войдут,
Цветущие увидят кущи…
Что только коллективный труд
Утешит горести кукушьи!
Всю жизнь — без роздыха — трудись
Во имя взбалмошной идеи,
Не ведая, что всякий лист
На древе на своем радеет.
На огороде на своем
Произрастает куст сирени,
И никакой там водоем
Родник гремучий не заменит.
Как жаворонок трепещит,
Себя выносит на песочек, —
Не заглушить лихой ночи
Его певучий голосочек.
Все чаще видится Батый,
Его орда, его нашествие…
Сплошная заросль лебеды
Лихое возвещает бедствие.
Возвысился чертополох,
Заполонил мою подгорицу.
Уже — ни тропок, ни дорог,
Все поросло слезливой горечью.
Укоренившийся ивняк —
Как дождь, как морось мглистой осени.
Последних извели коняг,
В расплывшемся утопли озере.
А яблоневый сад… Брожу,
Хожу по саду — как по кладбищу.
Гляжу я, нет, не на росу —
На поднятую к небу лапищу.
На длань, простертою над всей
Располоводившейся Волгою…
Себя не тешит соловей
Ночной скороговоркою.
Не росы холодят листву —
Ночная студит помоха,
И не с того ли за версту
Так слышно чуется черемуха.
Живу воспоминаньями. На Папорть,
На гору детства своего гляжу
Глазами памяти. Не мудрено,
Коль что-то не примечу, не увижу,
Слабеют памяти моей глаза.
И все-таки я приложу старанье,
Незримое — узрею, разгляжу.
Ах, детство, детство! По твоей горе
Сады благоухали, в молоке
Весной купались яблони-подростки,
Гудели пчелы, к молоку припав,
И осы нестихаемо гудели…
Я кланяюсь односельчанам. Сколько
Они мозолей нахватали! Сколько
Пролили пота… Дед мой, мой отец,
Недосыпая и недоедая,
Себя трудили, корчевали пни
Поваленного леса. Родники
От хлама очищали, чтоб звенели,
Чтоб жаворонком пели родники!
Колодезь рыли. Собирали воду,
Как в пригоршнях ее держали,
В колодезном хранили котловане.
Не нарушали сладкий сон ее,
Покой не нарушали. Только летом,
Когда, в жаре и в зное изнывая,
Томилось все живое. Даже травы
Молили небо, чтоб оно послало
Отдохновенье алчущей земле,
И исцеленье, и благоговенье…
Хотя б одной дождинкой пало
На истомленные жарой уста.
Не пало, поскупилось. И тогда-то
Мой дед нарушил сладкий сон воды,
Ее колодезный покой нарушил…
Обрадовались яблони, они
Успели повзрослеть, они
Плоды свои от зноя укрывали
Поблекшей, обессиленной листвой,
Так матери детей своих хранят.
Да не познают, не узнают дети
Ни зноя, ни жары! И не узнали,
Колодезная упасла вода.
И — не к добру. Уже витали слухи,
О коллективном баяли труде,
О небывалом рабстве. Не хотели
Рабами быть ни дед мой, ни отец.
Дед посчитал — уж лучше умереть.
И — умер, не успев отведать
К моим ногам упавшего плода…
В Преображенье умер. Сам себе
Могилу выкопал. Я не забыл
Могилу эту. В памяти моей
Своей запечатлелась глубиной.
И яблоками. Кто-то положил
Их в изголовье гроба. Много-много лет
Минуло с той поры. Окаменела,
Очугунела Папорть. Онемели,
Иссякли родники. В век чугуна, железа,
Возможно, так должно и быть. А если
Учесть, что верховодили страной
Железные, с чугунным сердцем люди,
Все встанет на свои места. Не надо
Ни вопрошать, ни удивляться…
Что они натворили, наделали,
Эти светлого царства строители?!
Упыри на поваленном дереве,
Вольно льющихся рек укротители.
Осквернители дивной обители,
Что восстала на волжской угорине…
Эти светлого царства строители
Речи сладкие долго глаголили.
Обещали молочные заводи
Да по всем луговинам, поёминам.
Ни корысти не будет, ни зависти,
Будет млеть, расцветая, черёмина.
На рассветной заре заневестится,
Не стесняясь, покажется у лесу,
Лета красного дивная вестница
Умилит невеликую улицу.
В ивняковой укроется заросли,
Не укрылась. Сгубили черемину.
Даже солнце стемнело от жалости,
Слезы льет на речную поемину.
Что они натворили, наделали,
Эти светлого царства строители?!
Упыри на поваленном дереве,
Вольно льющихся рек укротители.
Осквернители дивной обители,
Лиходеи потайного капища,
Жизни всей, всей Руси разорители,
Вурдалаки с разрытого кладбища.
Отбываю тихонько из Константинова,
А со мною листок оробевшего клена,
Пасмурь низкого неба, свинцово-полынного,
Что себя не спасло от лихого полона.
От Батыего ига, от дикого ужаса
Соловецкого или иного узилища.
Черные вороны кружатся, кружатся,
Что-то высмотреть черные вороны силятся.
Знать, хотят заприметить Сергея Есенина,
Притемнить васильково цветущие очи…
И река ивняковой листвою усеяна,
Ходит-бродит еще не поблекшая осень.
Пунцовеет калиной, рябиной кручинится
У крылечка накрытого пасмурью дома,
Припадая, каплюжится бисерно, инисто,
Бусенит над тоскующей в поле соломой.
Неизбывно грустит, над несжатым печалится колосом,
Прорастает уроненным на землю житом,
Может быть, потому так полынно, так горестно,
Вроде все-то Батыем поганым убито.
Все-то поле костями людскими усеяно,
Ускакала желанного счастья подкова,
Только дивные очи Сергея Есенина
Васильково синеют, цветут васильково.
Вошел во храм. И две свечи поставил
Во здравие поруганной Руси.
О, Господи! Пречистыми перстами
Усохшую былинку ороси.
На злак моей неутоленной жажды
Дождинками серебряно пади,
Чтоб в день страды, в день
подоспевшей жатвы
Продолженные виделись пути.
Твои, о, Господи, стези-дороги
Горячая исколесит страда…
Я верую — исчезнут лжепророки
И лжевожди исчезнут навсегда.
Не будет слова, сказанного всуе —
Восторжествуют вещие слова!
Неправедные потеряют судьи
Свои властолюбивые права.
Единственное утвердится право,
Достойное возвышенной любви, —
Ромашкою цвести, цвести купавой,
Чтоб весело шустрели воробьи!
И жаворонки весело звенели,
Доверчивые тешили сердца,
Чтоб, раздвигая сумрачную невидь,
Поставленная теплилась свеча…
В. Мамонтов — Ф. Сухову