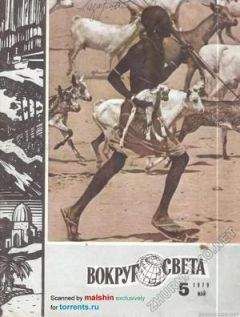Вокруг Света - Журнал «Вокруг Света» №10 за 1979 год
Вместе с мужем Клавдием Егоровичем она собственноручно срубила свой дом и баньку — лучше не придумаешь! — и готова часами рассказывать о том, как «раскрывать» дерево, как снимать с него наружные покровы, что такое «заподлицо», «лапа», «курица», «обло» и какие нужны балки, стропила, стойки и распорки, чтобы связать сложную кровлю... Кроме всего прочего, Анна Николаевна прекрасно шьет, вышивает, прядет, вяжет, плетет кружева, делает фантастические маски и костюмы, без которых ни один праздник не обходится. Ее вышивки экспонировались на областной выставке в Архангельске, в ее чулках и рукавичках — из толстой разноцветной нити — и сейчас расхаживают местные модницы... Ну а что касается приготовления козуль, то здесь она вне всякой конкуренции.
Что такое козули? Съедобная скульптура, если хотите. А точнее — козел, петух, корова, гусь, баран, олень, выпеченные из ржаного теста и приправленные черной патокой, гвоздикой и корицей. Сохранившиеся письменные памятники говорят о том, что еще в XII веке русичи лепили из теста фигурки животных и, поедая их, «рикали аки волове». Считалось, что это защищает дом от разных напастей.
В России, на Украине и в Белоруссии съедобные скульптурки называли «козулями»: «там, где коза бродит, там жито родит; там, где коза с рогом, там жито стогом». Козел в представлении древних был символом плодородия и зажиточности...
Перед праздниками в пышущих жаром русских печах готовили целые стада хлебных животных, потом их поедали на коллективных трапезах-братчинах. Чем больше на празднике козуль, тем больше надежд на то, что доброе божество отблагодарит людей обильным урожаем, приплодом скота, удачной охотой. Но с течением веков обряд этот утратил свой изначальный смысл, и козули постепенно превратились в предмет детской игры. Собрав целую коллекцию быков, коней, баранов и петухов, крестьянский ребенок играл с ними, как в куклы... Сейчас обычай выпекать козули почти исчез, и встретить его можно разве что здесь, на Мезени, в гостеприимном доме Анны Николаевны Кашуниной.
Ржаной муки достать в Лешуконском почти невозможно — не продают ее нынче в здешних магазинах, но хозяйка все же наскребла по сусекам, одолжила у знакомого пекаря и у соседей, намесила теста и на следующее утро, как мы договорились, поджидала меня в маленькой кухонке, чтобы показать свое искусство. Вырезая из раскатанного теста круглые катыши, она долго валяла их в толстых, увитых венами руках, прихлопывала и пришлепывала, удаляла лишнее, и тесто тянулось за ее пальцами, как нитка за иголкой. Каждое действие было выверено годами: козуля рождалась буквально на глазах, словно сама по себе. Сначала это был как бы плод, дитя зачатое, еще не рожденное. Но вот проявился грузный, несколько неуклюжий торс, округлились четыре ноги, на голове выросли крутые рога...
— Делаю коровушку обозную, титочку вострую. Сучок на бочку — дойна к молочку, — в рифму комментировала Анна Николаевна каждое свое действие. — Раньше-то я много чего умела, как-никак с детства приучена, с семи лет катала. Мама, бывало, придет с работы, скажет: давайте, девки, козули ладить, рождество завтра. Сестры мои тут и зарадуются, залопочут — каждой отличиться охота. А я рядышком пристроюсь, смотрю на них и тоже тяпаю. Они и говорят: ты как это так быстро выучилась? А я смеюся: глядя на вас, сеструшки, и навострилася. Бывало, наладим козулей-то и полную печь насадим. Сидят себе на огне, пекутся, а мы сказки сказываем или песни играем. Имена им еще давали, козулькам этим, а иной раз и к иконам ставили заместо богов. Ну а ежли раскрошатся — птице их скормим или скотине в пойло. Все в дело шло!
Анна Николаевна отвела фигурку на расстояние вытянутой руки, прищурилась, и на ее полном, одутловатом лице сетью глубоких морщин разбежалась улыбка:
— Вот коровушка идет, молоко в ушах несет. Буду коровушку доить, буду деточек кормить... Боюсь, титочка у меня не влезет — брюшко больно короткое. Да и копыта еще надо приделать и хвост. Как разгуляется — дак хвост кверху и задерет. Дыбом! — Она отложила готовую коровушку в сторону и взяла следующий комочек теста.
— А сейчас что будет? — спросил я нетерпеливо.
— Нового зверя изобретаю. Может, что и получится, — загадочно ответила Кашунина, не отрываясь от работы. Пальцы ее, прибавив скорости, двигались, как живые зрячие механизмы. — А получился упитанный... таракан. Таракан, таракан, таракашечка, не великая животная — букашечка... Он может и супа покушать, может и грибков. А может и в рыбу залезти, и в чай заползти... А сейчас гляди, что будет. — Она повернула лицо в мою сторону, приглушенно рассмеялась. — Для вашей для мужицкой породы наипервейшая вещь.
Два-три ловких движения, и эта «вещь» уже лежала передо мной, хотя догадаться о ее назначении было выше моего разумения.
— Неужто не признал? — затряслась беззвучным смехом Анна Николаевна и по обыкновению принялась выпевать очередную свою прибаутку: — Рюмочка христова, везена из Ростова. Рюмочка прелестная — девушка пречестная. Присушила молодца пуще матери-отца... В Москву повезешь рюмочку-ту или здесь оставишь?..
В каждой вылепленной фигурке чувствовался смелый выход из будничных норм, дерзкая, лукавая попытка выудить человека из повседневности и обратить лицом к празднику. Ведь козуля — родное дитя праздника — неразрывно связана с ярмарочными гуляньями, шутовскими выходками скоморохов, с масками ряженых, с неприхотливыми вкусами слегка подгулявшей толпы. В этих фигурках, как и на празднике, все нараспашку, все броско, причудливо. Образ козули условен и слегка намечен, остальное зависит от твоего воображения; если скажут, что это конь, — значит конь и есть, и не надо быть педантом, выискивая натуралистическое сходство. Эти фигурки, для которых характерна свойственная древним скульптурам незавершенность в проработке деталей, подхлестывают творческую фантазию и приобщают к процессу узнавания и одушевления образа.
— Сделаю перву уточку, а вторую несушечку, третья — восьмерочка, а четвертая — подводная лодочка, — продолжала как ни в чем не бывало Анна Николаевна, нанизывая на нить разговора только что родившиеся рифмы. Эта способность говорить в рифму проявлялась у нее в минуты сильного увлечения и только за работой.
Однако, увидев последнюю козулю, я все же не выдержал:
— А вы видели когда-нибудь подводную лодку?
— Видеть не видела, а уж коли слепила — значит, так тому и быть, — холодно отрезала мастерица, недовольная, что ее прервали. — А вот лесная избушечка. Стоит избушка на курьих ножках при одном окошке. — Она вдруг тяжело задумалась, помолчала.— Я в этой избушке две зимы прокуковала, сколько лиха испытала — ой-ей-ей! — И по лицу ее я догадался, что эта козуля связана с каким-то печальным эпизодом в ее жизни.
— В войну это было, в войну, — рассказывала Кашунина, отложив тесто. — Когда брата Николая в войну взяли, я в лес ушла робить. На лесоповал! Худо было тоды, худо: по сто граммов хлеба на едока выдавали. А в лесу известно какая работа: пока елку хорошую сыщешь, пока свалишь ее, пока сучья счешешь — пот тебе всю одежу проест. Хошь мороз трещит, хошь солнце палит — а все едино. Мы с девками да женками по двести процентов плану давали. От зари до зари — и каждый день...
Ну вот... работаю я в лесу, елку ошкуриваю — и вдруг слышу в чаще-то: «Ню-ю-ра!» Я и признала голос-то: брат родной меня вызывает, будто о помощи просит. Откель, думаю, брателко-то взялся — на фронте ведь воюет. Стою как дура, напряглась вся камнем, сердце только об ребра стучит. И опять эдак-то: «Ню-ю-ра!» Я к девкам: слышали, нет ли, как брателко меня кличет? Нет, говорят, не слышали, должно быть, леший с тобой заигрывает...
Как смена кончилась, я в избушку пришла. Темная така избушка была, вся в саже, дырьях и при одном окошке, а по бокам лежанки уставлены. На лежанке-то я и написала: 23 февраля у меня завопело, весть подало. И весь день крик этот в ушах стоял... А через неделю подруга моя, сменщица, из деревни вернулась: к вам, говорит, Нюра, похоронка с войны пришла, 23-го, говорит, брата твого Николая убило... Тут у меня разом все нервы отвалились, топор бросила — не могу робить. И надо ж такому случиться: погибал Коля черт-те в какой дали, а меня вспомнил, весть мне подал, и я ее услышала... Кому ни рассказываю — никто не верит. Вот я и думаю: есть еще у ученых неизученность большая, в людских тайнах неразбериха. И откуда она, тайна эта, родится — может, из тридевять подпятных жил? — мне уж и не сказать, потому как сама не знаю...
Ну и вот. — она снова переключилась на свои козули, — с той поры я и делаю эту избушечку, брата Колю вспоминаю. Я ведь о нем еще старину сложила.
Кашунина взглянула на меня искоса, словно проверяя, нет ли в моих глазах иронии, и, прокашляв голос, запела былинным размером:
— В этот день, мне очень памятный, пришла весточка нехорошая. Как погиб да родный брателко, Николай свет Николаевич, на войне да с черной силою, на войне то кровопролитною. Слезы горькие утираю я, гляну в карточку — вспоминаю я. У меня был родный брателко, белогрудый — душа пташица. Свила судьба ему тихо гнездышко, да во сырой земле, в злых кореньицах. Шелкова трава — одеялышко, умываньице — да мелкий частый дождь. Не один ты там из добрых молодцев. Вы уложены да пулей быстрою, да упокоены во могилочке, да на далекой-то во чужбиночке. Не дождусь от тебя весточки, ни скоровертной телеграммочки...