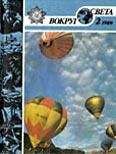Вокруг Света - Журнал «Вокруг Света» №12 за 1989 год
Тогда же, в 1927-м, колоритный «саамский мир» еще существовал...
Передо мной — изданная Географическим обществом книга Д. А. Золатарева «Лопарская экспедиция» (11.1 — 11.7.1927 г.). Перелистываю ее. Итак, 16 января участники экспедиции сошли с поезда на станции Пулозеро, остановились в Пулозерском саамском погосте и занялись антропометрическими измерениями и медицинским осмотром местных жителей. Что же увидели исследователи в этом, первом на своем пути, саамском селении? Цитирую Золотарева: «Близость железной дороги отражается на всем укладе жизни пулозерских лопарей. Они, как и остальные, занимаются оленеводством и рыболовством, но вывозка дров, перевозка грузов и пассажиров играет для них большую роль. При этом нельзя сказать, чтобы они жили безбедно. Разложение старого хозяйственного быта сказывается на пулозерских лопарях, производящих здесь довольно жалкое впечатление». Да, констатировать в печати в 1927 году это объективное положение было еще возможно... Для себя же, для изучения самобытной культуры саамов, Золотарев вынужден был сделать вывод: «...лучше ехать для этнографических наблюдений на Восток, дальше от Мурманки».
«Людьми восьми сезонов» назвал саамов шведский этнограф Эрнст Манкер. Назвал потому, что в разные промысловые сезоны саамы, главной отраслью хозяйства которых издавна была рыбная ловля, кочевали от одного водоема к другому. Когда же, в XIX веке, наряду с рыбной ловлей начало усиленно развиваться оленеводство, годичный цикл кочевок стал включать и места выпаса оленей. И на каждой новой стоянке саамы строили свои сезонные жилища: в бесснежное время — деревянно-земляные вежи или сшитые из брезента чумы — куваксы, зимой — избушки-тупы. У лопарей восточной части Кольского полуострова, где оленеводство быстро заняло главное место, возникла система «двойных» погостов: зимних, во внутренней лесной зоне полуострова, где было больше дров, были возможны свободный выпас оленей и охота, и летних — в прибрежной тундре, на побережье Баренцева моря, где велась ловля рыбы.
В январе, когда началась Лопарская экспедиция, население было сосредоточено в зимних поселениях. Через них и пролег дальнейший маршрут экспедиции: Ловозеро — Семиостровский погост — Каменский погост — Ивановка — зимний Иокангский погост и далее — по русским поселениям Терского берега. Особенно привлек исследователей зимний Иокангский погост, где больше, чем в других упомянутых погостах, чувствовалась устойчивость лопарского хозяйства.
Ничего прямо относящегося к героям Писахова или к обстоятельствам, проясняющим историю создания его рисунков, эта книга Золотарева не содержала.
Я обратился к другой работе антрополога, к его труду «Кольские лопари», также написанному по итогам экспедиции. Логика поиска была простой. После пребывания в зимнем погосте лопари — с наступлением весны — должны были откочевать в Иокангу летнюю. Возможно, там и застал их С. Г. Писахов. И, возможно, те саамы, которых изучали ученые зимой, позировали художнику летом. Действительно, среди фотографий жителей зимнего погоста, приложенных к книге, я обнаружил значившуюся в моем списке Марфу Никитичну Матрехину и Лазаря Федотовича Матрехина, а также Матрену Харлину — ту, что стригла овцу на рисунке Писахова. Но сведения о них в книге Золотарева были крайне скупы: возраст, внешний вид, цвет глаз, рост стоя и сидя...
Значительно большую информацию содержали книги В. В. Чарнолуского. В «Легенде об олене-человеке» Иоканге 1927 года были посвящены многие страницы. Прежде всего я увидел здесь фотографию летнего Иокангского погоста, сделанную точно в том же ракурсе, что и на одном из рисунков Писахова. Создавалось впечатление, что фотограф и художник были здесь вместе...
Вот, в числе рисунков, дом лопаря Луки Федотовича Матрехина. От окрестных туп его отличают фундамент, солидная кладка бревенчатых стен, большие размеры. Не о нем ли пишет Чарнолуский: «Изба-пятистенка на каменном фундаменте кажется замком феодала по сравнению с остальными». На другой странице книги снова фигурирует «дом пятистенка, вполне исправная изба; в ней много окон и света, светлые обои, полы вымыты до блеска, покрыты масляной краской...»
Книга «В краю летучего камня» пролила свет и на происхождение самого рода Матрехиных. Оказалось, что их садкой, то есть местом поселения, носившим постоянный, а не сезонный характер, был Нижнекаменский погост на озере Вулиявр. Оттуда род Матрехиных заселил Нирьхтниярк — всю восточную часть Кольского полуострова, включая и летний и зимний Иокангские погосты. Садка Матрехиных хранила трудовые традиции и предания восточных саамов, их лыхте-верра — древнюю языческую веру. Поселение саамов на озере Вулиявр возникло еще в XVI веке, тайно. Живший здесь ранее отшельник Сергей (по его имени и название — Сергозеро) предупреждал таившихся в тундре лопарей о том, что на них готовятся набеги с целью обращения в православие. Поэтому среди рода Матрехиных были не только хранители языка, носители диалекта, который позднее получил название иокангского, но и знатоки древних языческих обрядов народа, хранители шаманского искусства, чародеи и ведуны.
Первой из персонажей писаховских рисунков в книге Чарнолуского нашлась Марина Лазаревна Матрехина. В пояснении к рисункам Писахова Чарнолуский называет ее «девушкой-лопаркой в летнем праздничном костюме». Отмечает ее странный головной убор-перевезку, который саамские девушки носили до вступления в брак.
Оказывается, прибыв в Иокангу летнюю, автор «В краю летучего камня», будучи еще студентом, «обосновался в школе, чтобы не тратиться на оплату квартиры». Столоваться сговорился у Марины. Марина же уговорила саамского паренька Пронея пойти со студентом к иокангскому сейду, познакомить с древним саамским святилищем.
Сеиды — священные камни саамов, культ которых некогда был распространен по всей Лапландии, как в скандинавских странах и Финляндии, так и на Кольском полуострове. Почитание камней — одно из наиболее ярких проявлений язычества — вызывало постоянное преследование как католической, так и православной церкви. Еще архиепископ Новгородский и Псковский Макарий писал Ивану Грозному: «...во всей Корельской земле до Коневых вод и за Ладожское озеро и около него суть многие идолопоклоннические суеверия и скверные мольбища идольские, коими служат леса, камни...» Сейды могли быть как предметом семейного или родового поклонения, так и культа целого погоста. По представлениям саамов, эти священные камни обладали способностью перелетать с места на место.
Русские исследователи Лапландии Н. Н. Харузин, К. В. Щеколдин, В. Ю. Визе, а в советское время В. К. Алымов описывали многочисленные капища и сейды саамов в западной и центральной частях Кольского полуострова. Столкнулся со следами древнего культа и автор этих строк. На острове Колдун, что возвышается в южной части Ловозера, на его вершине я видел место древнего мольбища, окруженное вертикально поставленными рогами оленей. Ветви рогов покрывал плотный и густой мох. По-видимому, как место жертвоприношения сейд был оставлен десятки лет назад.
Сейды в восточной части Кольского полуострова практически не были известны. Тем больше интереса вызвал у Чарнолуского рассказ Марины и возможность познакомиться с этими памятниками в окрестностях Иокангского погоста.
...Близ устья реки Иоканги, там, где она выходит из узкого скалистого каньона и устремляется к морю, в понижении небольшого холма, в окружении берез Чарнолуский и увидел большой четырехугольный темный камень, внешне напоминавший саамскую избушку. Весной, после приезда из зимнего погоста, жители Иоканги шли сюда, неся сейду свои жертвы: кто свинцовую пулю или табак, кто рыбу или полоски цветного сукна. Здесь совершались моления, испрашивалась удача в летнем промысле.
Саамские капища обыкновенно располагались в стороне от селения, в уединенных местах, так как, по древним поверьям, сейды не выносили шума и, заслышав его, могли оставить привычное место. Такая участь, по рассказу Пронея, постигла и иокангский сейд. Когда однажды здесь собралась молодежь и завела шумные игры, из-за камня внезапно появился старик с длинной бородой. Он поднял свой посох и погрозил разгулявшимся ребятам. Это и был сейд. Потом он повернулся спиной и ушел.
— Куда? — спросил Чарнолуский.
— А кто знает, куда,— ответил Проней,— улетел, старики сказывали. Пусто ныне там, в камне.
Узкой тропой возвращались путники в погост. По дороге Чарнолуский собрал с десяток луковиц лугового чеснока — принес их в подарок Марине Матрехиной...
В книге приводится и характеристика Лазаря Федотовича Матрехина — уважаемого оленевода, знатока тундры. С ним Чарнолуский отправился на Кейвы на «имание оленей». Там Матрехин показывал ученому многие местные травы. На рисунке Писахова Л. Ф. Матрехин изображен в традиционном зимнем наряде: в сложном головном уборе — каппере, в шубе-печке, в меховых сапогах — ярах.