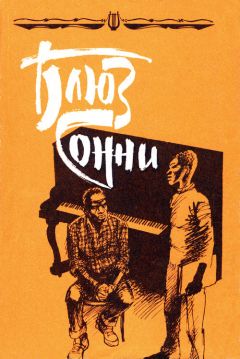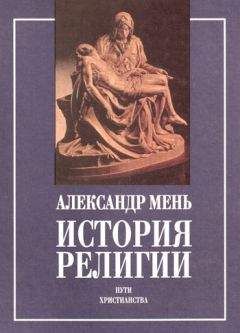Эдуард Мёрике - Блюз Сонни: Повести и рассказы зарубежных писателей о музыке и музыкантах
Давление этой разверстой, расступающейся тишины вытеснило из меня обычный ежесекундный джаминг, прописанный пожизненно. Подобное случалось со мною лишь в те редкие мгновения, когда жизнь переходит из одной части в другую, на переломе судьбы, когда происходит оглушительный взрыв внутренней тишины, зрительно подсвеченный тем серебристо-лиловым светом, который как-то неизбывно связан с адреналином. Я могу так спокойно теперь описывать это свое первое состояние, потому что со временем я укрепился в нем, как в этом кожаном кресле, знал, так сказать, где у него подлокотники… Между прочим, все медитации дзена, все шавасаны, раджа-йога и монастырское затворничество алчут именно этой тишины — оставим музыку — именно этого отсутствия внутреннего шума.
Дальнейшее произошло мгновенно: это не музыка, известная мне до четвертьтактов, рухнула на меня, это я провалился в нее, потому что она была не снаружи, не внутри, а везде. Безусловно, это была версия, которую я когда-то, не будучи искушенным, считал лучшей — Лорен Маазеля.
Возвращение из концертного зала в окончательно угасшую лавочку вызвало у меня тошноту. Я тупо смотрел на старикана, протягивавшего мне опять стакан воды. Наконец до меня дошло, что он предлагает мне еще одну пилюлю. Я замахал руками, барахтаясь и пытаясь выбраться из кресла. Через какое-то криво-остриженное время — вот-вот! разрушается ощущение времени, оно ползет как чулок! — появилось слово-нейтрализатор и я отправил к Моцарту вдогонку лакрицей отдающий черный шарик. — «Мы пока не производим одноразовых пилюль, — наплывал хозяин. — Все эксперименты за свой счет! Если не принять нейтрализатор, музыка вернется через несколько минут. Все, конечно, зависит от организма, а в некоторых случаях от одновременно принятых лекарств или алкоголя… Один знакомый, знаете ли, из Шуберта тремя стаканами водки сделал чуть ли не Бетховена… А, скажем, вальюм понижает громкость. А если накуриться травы, как делают некоторые неразумные молодые люди, то из простенького марша, годного лишь для выгуливания лошадей, получится Шёнберг или, упаси Боже, Колтрейн позднего периода…»
Старикан не принимал кредитных карт, наличными у меня было не густо. Однако я отоварился Токкатами Баха в исполнении чудака Гульда, набрал почти с десяток пилюль Шуберта, взял Сороковую Моцарта и сумасшедшего саксофониста Джона Хэнди. В виде небольшого презента мне был выдан Оскар Питерсон. Мы пожали друг другу руки, старикан посоветовал побольше пить молока, и я вышел в раннюю нежную ночь.
Месяц я ничего не делал. Я сидел дома или шлялся по городу, заглотив с утра пораньше пилюлю. Музыка возвращалась с ровными промежутками, и качество ее не менялось. Я принимал нейтрализаторы чрезвычайно редко. Иногда я умудрялся спать в волнах шопеновских этюдов, под моросящим дождем Эрика Сати или под жаркую колыбельную Бахианы Вила Лобоса. Несколько раз меня останавливала полиция. Несколько раз меня возили на идиотские тесты. Конечно, я выглядел как наркоман, но что в жизни не наркомания? Секс? Деньги? Слава? Все зависит лишь от сосредоточенности, вовлеченности. Или — наоборот — потерянности. Старик Глоцер, хозяин музыкальной лавки, придумал, как запихнуть человека вовнутрь оркестра, он был гений. Не рассказывать же фликам, что я молчу, погруженный в музыку? В моем виде на жительство проставили какую-то специальную отметку. Плевать. Я мало обращал внимания на внешнюю жизнь. Я менялся. Словно огромный внутренний вздох впервые в жизни наполнил мои легкие — я выходил из рутины существования, из всегда хорошо осознаваемой бессмыслицы, на отрешенный, терминологически не существующий простор.
Мои попытки вернуться к занятиям, закончить изрядно подгнившую за это время повестушку, ни к чему не привели. Появилась в начале октября Тина. Ходила тихая по вновь заросшим мебелью комнатам — бедняжке мерещилось, что я задвинулся из-за нее. Я дал ей как-то от головной боли — пей! пей! именно это и есть от головной боли! — «Африку» Колтрейна. Она пролежала сутки не двигаясь, глядя в потолок. Позднее мы принимали что-нибудь одновременно — Бетховена или Моцарта — и, обнявшись, ложились в постель. С сексом было кончено. То, что мы делали теперь вместе, имело другое правописание. Она говорила — любовь. Я до сих пор не называю это никак. Дашь имя — потеряешь. Как гвоздь вобьешь.
В конце января, накануне ее дня рождения, закупив у старика Глоцера изрядное количество фортепьянных концертов и знаменитых квартетов, мы отправились в горы. Мой старый приятель, океанограф, давно предлагал мне ключи от уютного, на краю деревни стоящего шале. Она чудно каталась, моя девочка; сжатые вместе коленки, удар острием лыжной палки влево, вправо, обгорелый нос и облака вместо глаз на стеклах круглых альпийских очков. Вечером в огромном камине медленно прогорало полено, сушились на спинках приставленных к огню стульев свитера и носки, белыми нитями висел снег в раме черного окна, и мы, лежа на полу напротив огня, листали журналы тридцатилетней давности под Сарабанду Генделя, под бамбуковую флейту японца Ямамото.
Она погибла под обвалом, Тина, солнечным полднем в день своего рождения. Мы были на снежной целине, шли на большой скорости, вздымая белые волны, прижатые сосняком к отвесной стене Большого Карниза. Ни она, ни я обвала не слышали. Она с утра, еще за кофе, приняла Шестую симфонию Бетховена (Бернстайн), я же был в плену у Гил Эванса («Там, где летают фламинго»). Расстояние между нами было около двадцати метров. Объезжая чью-то потерянную красную варежку, я почувствовал ледяной выдох, обжегший шею, и мгновенно меня обогнавший вихрь серебряной пылью закрыл все видимое пространство. Я тормозил, низко сидя, ослепнув, но все же пытаясь повернуться. Розовые фламинго взрывались одна за другою в моей голове. Ветер снес сухой снежный заслон и поднял мои волосы: я стоял в метре от не догнавшей меня, аккуратной, все еще поскрипывающей, все еще на швах оползающей ультрамариновой стены льда и снега. Долина внизу лежала праздно раскрашенной картинкой, и двое школяров в подвесной кабине прилипли сплющенными носами к стеклу. Проследив траекторию их сдвоенного удивления, я увидел на вершине сияющего надгробия криво торчащую острием вверх тинину лыжную палку.
Вернувшись на одной-единственной Пятой Бетховена в Париж, двигаясь как сломанный автомат, бросив у консьержки внизу и лыжи, и сумку, я отправился в магазин Глоцера. У меня не было черного лакричного нейтрализатора, мне нечем было остановить тираническую работу чужого гения. Я не нашел магазин на этот раз. На его месте, сверкая отвратительно свежей краской, красовалось бюро путешествий: Мальта, Бермуды, Греция, как всегда гологрудые, соленой водой сбрызнутые дивы в песке. Мне нужно было совсем другое путешествие. Увы, улыбчатая ведьма за конторкой ничего не могла мне сообщить о бывшем владельце. Я ткнулся туда-сюда, побывал в синагоге, околотке, но ничего не нашел.
Помнится, перед самым отъездом в горы, Глоцер обещал мне по приезде дать отведать нечто совсем новое — «пустышку», как он ее называл: пилюлю чистейшей высококачественной тишины, — Пробить ее, сказал он, мог бы, разве что, выстрел в упор.
Приписанный к Пятой симфонии, с которой ничего не делают ни вальюм, ни героин, ни опиум, заложник старика Ван Людвига, я собираюсь на последние деньги в Лозанну — менять кровь. Старый трюк, быть может, сработает.
© Дмитрий Савицкий, 1986 г.Карел Чапек
(Чехословакия)
ИСТОРИЯ ДИРИЖЕРА КАЛИНЫ
— Кровоподтек или ушиб иногда болезненнее перелома, — сказал Добеш, — особенно если удар пришелся по кости. Уж я-то знаю, я старый футболист, у меня и ребро было сломано, и ключица, и палец на ноге. Нынче не играют с такой страстью, как в мое время. В прошлом году вышел я раз на поле; решили мы, старики, показать молодежи, как раньше играли. Стал я за бека; как пятнадцать — двадцать лет назад. И вот, как раз когда я с лета брал мяч, мой собственный голкипер двинул меня ногой в крестец, или иначе cauda eguina. В пылу игры я только выругался и забыл об этом. Только ночью началась боль! К утру я не мог пошевелиться. Такая боль, что рукой двинешь — больно, чихнешь — больно. Замечательно, как в человеческом теле все связано одно с другим. Лежу я на спине, словно дохлый жук, даже на бок повернуться, даже пальцем пошевелить не могу. Только охаю да кряхчу — так больно.
Пролежал я целый день и целую ночь, не сомкнул глаз ни на минутку. Удивительно, как бесконечно тянется время, когда не можешь сделать ни одного движения. Представляю себе, как мучительно лежать засыпанным под землей… Чтобы убить время, я складывал и умножал про себя, молился, вспоминал какие-то стихи. А ночь все не проходила.
Был, наверно, второй час ночи, как вдруг я услышал, что кто-то со всех ног мчится по улице. А за ним вдогонку человек шесть, и раздаются крики: «Я тебе задам», «Я тебе покажу», «Ишь, сволочь ты этакая», «Паршивец» — и тому подобное. Как раз под моими окнами они его догнали, и началась потасовка — слышно, как бьют ногами, лупят по физиономии, кряхтят, хрипят… В комнату доносятся глухие удары, словно бьют палкой по голове. И никаких криков. Черт возьми, это никуда не годится — шестеро колотят одного, словно это мешок с сеном. Хотел я встать и крикнуть им, что это свинство. Но тут же взревел от боли. Проклятие! Не могу пошевелиться! Ужасная вещь бессилие! Я скрежетал зубами и мычал от злости. Вдруг что-то со мной произошло, я вскочил с кровати, схватил палку и помчался вниз по лестнице. Выбежал на улицу — ничего не вижу. Наткнулся на какого-то парня и давай его дубасить палкой. Остальные — бежать, я этого балбеса лупцую, ах, как лупцую, никого в жизни еще так не лупцевал. Только потом я заметил, что у меня от боли текут слезы. По лестнице я подымался не меньше часа, пока добрался до постели, но зато утром мог не только двигаться, но и ходить… Просто чудо…