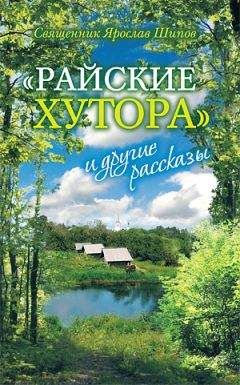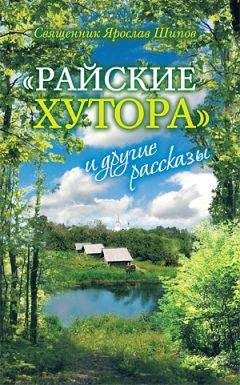Александра Бушен - Молодой Верди. Рождение оперы
— Никогда в жизни не могла бы представить себе такого про маэстро Россини, — сказала донна Каролина.
— Как все это непонятно, — сказала Клара, — и сложно, и страшно.
— То, что вы говорите, доктор, наводит на размышления, — озабоченно сказал Босси. И попытался сослаться на законы наследственности, но никак не мог ясно выразить свою мысль. Алипранди пришел ему на помощь. — Не будем отвлекаться в неисследованные дебри, — сказал он. — Наследственность не при чем. Родители маэстро были люди вполне здоровые и уравновешенные. — И напомнил, что отец композитора, городской трубач, человек малограмотный, был убежденный республиканец и отважный патриот, принимал участие в революционном движении и не раз сиживал в тюрьмах. — А вот Джоаккино — тот с раннего детства воспринимал революционные события с непреодолимым ужасом и нескрываемым отвращением.
— А что говорил на это отец? — спросила донна Каролина. — Мальчишка был, очевидно, отъявленным трусом.
— Не только это, — сказал Алипранди, — он был смышлен и сообразителен не по годам, маленький Джоаккино, и он воспринимал революционные события как бедствие для себя и семьи, как помеху, лишающую его и его семью куска хлеба и уверенности в завтрашнем дне.
— Каков эгоист! — засмеялась донна Каролина.
— Это ужасно! — сказала Клара. — Не смешно! Ужасно!
— Ничего не поделаешь! — Алипранди говорил тоном извинения. Он жалел, что так огорчил Клару. — Ничего не поделаешь! Такова особенность характера маэстро. Гипертрофированная впечатлительность породила в нем величайший эгоизм. Ничего не поделаешь! Таким он был в детстве, таким и остался на всю жизнь.
— Хорош, нечего сказать! — протянула донна Каролина. — Но это действительно так. Я припоминаю теперь, что слышала о том, как он во время апрельских событий 15-го года в Болонье написал музыку к «Гимну Независимости». Это рассказывал мой отец. Я была тогда совсем маленькой девочкой, но очень хорошо помню, как он рассказывал об этом. Маэстро написал музыку к гимну против своей воли, написал только из страха перед болонскими патриотами, которые просили его об этом. Маэстро было тогда двадцать три года, и имя его гремело по всей Европе. Он не посмел отказать болонцам, этим бесстрашным, самоотверженным людям — они стали бы презирать его за это. Но впоследствии, когда вернулись австрийцы и все было подавлено, а он успел бежать, маэстро чуть ли не отрекся от того, что писал этот гимн, и говорил об этом, посмеиваясь и иронизируя. Говорил, что слово «независимость»— indipendenza — чудовищно и невозможно для пения.
— Да, да, — сказал Алипранди, — уже и тогда можно было предположить, что не в общественных событиях найдет маэстро стимул для творчества.
— Не понимаю, — сказала донна Каролина, — почему я не могу назвать маэстро плохим патриотом и почему, когда я рискнула это сделать, на меня напали? — она украдкой поглядывала на синьора Мартини, как бы вызывая его на разговор. Но он сидел неподвижно, с котенком на руках, низко опустив голову на грудь, и, казалось, ничего не слышал.
— Это же странно все-таки, — возмущалась донна Каролина. — Вот композитор, который вышел из народа, из самых что ни на есть народных низов, жил в бедности, видел и ощущал угнетение и унижение своей родины. И этот великий композитор не может уловить и запечатлеть в своем творчестве тех чувств и стремлений, которыми живет его страна и живет его народ. Почему это так?
— Не эти чувства его волновали, — сказал Алипранди, — не к ним он тяготел, не ими жил.
— Но все-таки это странно! — настаивала донна Каролина. — Странно и непонятно! Клара, дорогая, а ты как думаешь? Чем это объяснить, если не тем, что он плохой патриот?
— Судьба, — сказал Алипранди, — сыграла с маэстро трагическую шутку. Годы его выхода на театральную сцену, годы, когда он стал проявлять себя как музыкант-композитор, совпали с теми годами, когда вопросы искусства перестали быть у нас вопросами чисто эстетическими, вопросами вкуса, вопросами школ и направлений; годы его творческой деятельности совпали с теми годами, когда жизнь породила особенно глубокие мысли и особенно страстные чувства и потребовала их выражения в искусстве, и особенно сильно потребовала их выражения в музыке. Потому что музыка, как известно, любимейшее искусство нашего народа, общий для всех и всем понятный язык, которым народ наш заявляет о своем праве на независимость и — скажу прямо — о своем могуществе.
— О, как прекрасно вы это сказали, — прошептала Клара. — Музыка — общий для всех и всем понятный язык, которым народ наш заявляет о своем праве на независимость и о своем могуществе.
— Да, да — это чудесно, — нетерпеливо сказала донна Каролина, — но я хочу знать, где трагическая шутка?
Алипранди усмехнулся.
— Извольте. Трагическая шутка в том, что глубоких мыслей и страстных эмоций у маэстро Россини не было. Никогда не было! Таким образом, сама жизнь толкала его как раз на то, на что он не был способен. Да, не был способен, несмотря на гениальную свою одаренность. Не был способен, я настаиваю на этом, в силу своего характера. В силу особенностей своего характера. Это очень трагично, и он, несомненно, должен был почувствовать это.
Босси крикнул ему из дальнего угла гостиной:
— Ну, что ж, по вашему выходит, что великий маэстро должен был почувствовать себя беспомощным перед наступлением новых идей и новых чувств? Так, что ли?
— О, — сказал Алипранди, — я ничего не утверждаю. Я только строю догадки и предположения. Может быть, маэстро Россини действительно почувствовал, что в наступающем новом времени его творчеству нечем питаться. Может быть, он понял, что пошел по ложному пути, но одновременно с этим понял, что возврата ему нет. Может быть, может быть! Все это возможно. Я вполне допускаю это. Слабость души и слабость воли, и эта его гипертрофированная впечатлительность, и ярко выраженная ипохондрия — все эти физические немощи и болезненные свойства характера сковали гениальную творческую мысль композитора и, весьма вероятно, утвердили в его сознании горькую уверенность в том, что писать он больше не может. И вот перо выпадает у него из рук и он умолкает.
И тут к Алипранди обратилась донна Каролина, почему-то сильно смутившись.
— Вы говорите, — сказала она, — что болезнь и ипохондрическое настроение вселили в маэстро уверенность, что он не может больше писать. Но если бы кто-нибудь взялся его разуверить и сумел бы этого достигнуть, смог бы маэстро снова взяться за перо?
Вопрос показался Алипранди до смешного наивным, и он не сразу нашел, что на него ответить. Ответил синьор Мартини.
— Нет, — сказал он, — не смог бы!
Все повернулись к нему. Голос его прозвучал несколько неожиданно. Он очень долго сидел неподвижно и молча, с опущенной головой, и все, как бы сговорившись, не нарушали его молчания вопросами и не обращались к нему. Клара Маффеи думала, что он, может быть, задремал. Синьор Мартини выпрямился. Спавший у него на коленях котенок выгнул спину и прыгнул к нему на плечо. Синьор Мартини повернул голову и прижался щекой к теплому пушистому зверьку. Котенок соскочил на стол и осторожно, чуть скользя нетвердыми лапками, пошел по блестящей поверхности, гладкой, как стекло. Синьор Мартини встал. Он казался беспредельно утомленным. Живыми оставались только глаза. Они смотрели пытливо и напряженно.
Синьор Мартини прошел несколько шагов по комнате. Остановился перед портретом Жорж Санд (Клара Маффеи была страстной почитательницей французской романистки, сторонницы идеи освобождения Италии от иноземного гнета). Потом повернулся к нему спиной. Прислонился к стене. Наклонил голову и посмотрел себе под ноги. Искал глазами котенка.
Котенок сидел на столе перед вазой с цветами. Протянув лайку, он поспешно, мелкими движениями похлопывал и теребил уже увядающий тюльпан, тяжелый и пышно распустившийся, точно роза. Лепестки дождем сыпались на стол. Котенок с удвоенной торопливостью теребил цветы. Синьор Мартини шагнул к столу. Но донна Каролина опередила его. Она ловко схватила котенка за шкурку на спине, высоко подняла его и засмеялась, глядя на его беспомощно растопыренные лапки с выпущенными острыми, как иглы, когтями. Потом она легонько шлепнула его раза два, нагнулась и пустила его на ковер. Котенок жалобно запищал. Синьор Мартини закрыл глаза.
— Все, что сказал уважаемый доктор Алипранди, очень правильно и тонко подмечено, и я совершенно с ним согласен. Мне хотелось бы, однако, прибавить еще кое-что к уже сказанному. — Синьор Мартини говорил очень тихо. Он казался беспредельно утомленным. — Молчание маэстро Россини, — продолжал он, — наше общее горе и наше общее дело. Это дело всей страны, это касается нашего искусства — ergo, касается всех нас. Поэтому каждому из нас можно и должно высказать все свои мысли и соображения по этому поводу. Я сам только что сказал, что маэстро Россини явился живым протестом против того состояния упадка, в которое пришла музыка нашей страны; я сказал, что он выступил против диктатуры бездарных учителей, против раболепного следования изжившим себя правилам, против косности публики, тирании певцов, алчности импресарио. Все это так. Я только что говорил об этом. Но маэстро Россини не внес в оперную музыку ничего такого, что изгладило бы или, по крайней мере, существенно изменило бы старое; он не внес в оперную музыку ни элементов новой драматургии, ни новых интонаций. Нет, этого он не сделал: и драматургия и интонационный язык оперного произведения остались прежними. Маэстро Россини по-прежнему подчиняет человеческую драму законам «внутримузыкальным», то есть законам развития музыкальной формы, и создает иллюзию новизны, разрешая трагедию путем неслыханных колористических эффектов. Я сказал «иллюзию новизны» потому, что подлинная новизна должна была проявиться в содержании, в глубоких мыслях, в страстной эмоции, а ни того, ни другого мы у маэстро Россини не видим. Все это уже отметил мой друг, доктор Алипранди. Я же, со своей стороны, прибавлю к этому, что маэстро, признавая в музыке эмоции «вообще», смеется над возможностью выявить эти эмоции более жизненно, более определенно, заставить их звучать по-разному в зависимости от силы самой эмоции, от сценической ситуации, от личности героя, выражением состояния души которого эти эмоции являются. Всех этих возможностей маэстро не признает. Мне самому довелось слышать от него одно такое утверждение, сделанное им в шутливой форме. Это было в Париже. Мы говорили о похоронном марше. Маэстро прохаживался по комнате, потом остановился у открытого окна и выглянул на улицу, а в это время по мостовой дефилировал батальон зуавов под командой офицера. Маэстро обернулся ко мне и сказал смеясь: «Что бы вы ни говорили, друг мой, а похоронный марш есть похоронный марш, будь он написан на смерть полковника зуавов или его тещи».