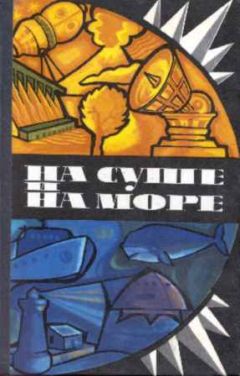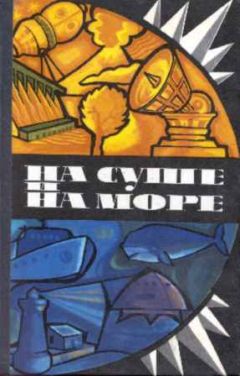Кшиштоф Мейер - Шостакович: Жизнь. Творчество. Время
Вышел Шостакович, бледный. Сел за рояль и взглянул на Хубова. Тот кивнул головой. Шостакович начал. Я чувствовал напряжение во всем его поведении, а не только в игре. <…> Потом наступил перерыв. Композитор уселся в первом ряду. Один, совершенно один. Никто к нему не подошел. Поведение зала скорее соответствовало суду над преступником, чем премьере произведения великого музыканта. Я чувствовал себя ужасно. Зал молчал, Хубов сидел неподвижно, искоса глядя на других, более важных персон. Что они скажут? Как насупят брови?
<…> После второй части началось обсуждение, а скорее, суд. Он — одинокий в первом ряду, вершители судеб — где-то в середине зала, остальные слушатели — в его конце. Началось с удивления: это должен был быть наш, современный Бах, то есть музыка для народа. А вместо этого мы слышим произведение авангардистское, сложное. „Для кого это, товарищ Шостакович?“
Другие выступления были подобны этому — критические, сдержанные, с лицемерными вздохами: „Не того мы от вас ждали…“ Наконец попросила слова полная пожилая женщина. „Кто это?“ — спросил я у Хубова. Юдина! Смело, страстно она начала защищать произведение: „Это гордость для нас, — сказала она, — иметь возможность играть эти чудесные прелюдии. Их будут исполнять пианисты всего мира“. Ее поддержала Татьяна Николаева.
Я вышел униженный, это было страшно, несмотря на этих мужественных, отважных женщин. На Хубова я смотреть не мог»[380].
Даниэль Житомирский поделился своими впечатлениями в письмах к жене: «Вчера в Союзе композиторов Шостакович в первый раз играл свои новые Прелюдии и фуги, то есть первую половину цикла. Естественно, зал был переполнен. Царила напряженная атмосфера. Его игра была исключительно плохой (позже он мне сказал по телефону, что его мучили ужасные боли в желудке), зато сама музыка отчасти складывалась из великолепных произведений. Кое-что в этой музыке было неясно, кое-что другое опять-таки так плохо сыграно, что трудно было составить о ней какое-то мнение» (письмо от 1 апреля 1951 года). И через неделю: «Вчера в том же зале Шостакович исполнил вторую половину своего цикла. Он был в наилучшей форме, и его игра тоже была очень ровной. Снова целый океан замечательной музыки. Когда он закончил, зал устроил ему овацию. Однако „начальство“ продолжало кривить физиономию, хотя среди фуг были даже и такие, темы которых (как я узнал позднее) опираются на подлинные русские народные мелодии…» (письмо от 6 апреля)[381].
16 мая завязалась острая дискуссия, в которой приняли участие композиторы, музыканты-исполнители, критики и музыковеды. Большинство из них предъявляли автору обвинения в возврате к формализму и декадентству, а некоторые фуги (например, Des-dur) прямо называли обыкновенной какофонией. Композитора обвиняли также в отходе от современной тематики («Зачем повторять „Хорошо темперированный клавир“?»). Среди резко критикующих оказались Мариан Коваль, а также Кабалевский, Нестьев, Скребков и некоторые другие. Лишь немногие защищали новый опус Шостаковича — прежде всего его ученики (Свиридов, Левитин) и пианисты (Юдина, Николаева). Споры длились еще много месяцев и затихли только тогда, когда Татьяна Николаева, которая с воодушевлением разучивала Прелюдии и фуги еще во время их создания, завоевала большой успех, впервые исполнив весь цикл в двух концертах.
В 24 прелюдиях и фугах композитор реализовал идею пересадки баховской фуги на почву собственного музыкального языка — начиная с почти чистой стилизации (Прелюдия cis-moll) и вплоть до тотального хроматизма, где тональность оказывается уже чисто условной (Фуга Des-dur).
Не все произведения сборника имеют одинаковую ценность и не во всех в равной мере сохраняются черты стиля Шостаковича. Некоторые из них, к примеру Прелюдии C-dur и Fis-dur, представляют собой образцы архаизации, понимаемой поверхностно и неубедительно; однако таких менее удачных сочинений немного и они не умаляют значения целого. В сборнике есть пьесы глубоко драматические и полные пессимизма (потрясающая Прелюдия b-moll или Фуга h-moll), пьесы, отличающиеся специфическим шостаковинским юмором (Прелюдия H-dur, Фуга B-dur), гротескные (Прелюдия fis-moll, Фуга As-dur), лирические (Прелюдия f-moll, Фуга g-moll), спокойные (Прелюдия F-dur, Фуга A-dur), близкие к русской традиции (Прелюдия c-moll, Фуга d-moll) и опирающиеся на интересные собственные лады Шостаковича (Фуги As-dur и Es-dur). Им свойственны также большие пианистические достоинства — сразу чувствуется, что их создавал виртуоз.
В цикле явно заметна удивительная стилистическая непоследовательность. Иногда рядом с откровенно традиционными миниатюрами (Прелюдия Fis-dur) появляются произведения очень новаторские и нетрадиционные (Фуга Des-dur). Отдельные пьесы весьма характерны для стиля раннего Шостаковича (например, Прелюдия fis-moll), другие же приближаются к непосредственно предшествующим сочинениям (например, к «Песни о лесах»), где оригинальность композиторской мысли не столь очевидна (Фуга C-dur). Богатый инструментальный колорит (Прелюдия E-dur) сочетается с сухой, «графической» полифонией (Фуга a-moll), ощущается то непосредственное обращение к баховской фактуре (Прелюдия cis-moll), то к миру драм Мусоргского (Прелюдия es-moll).
Однако прежде всего полифонический сборник Шостаковича — это произведение, глубоко связанное с русской традицией. Национальное начало уже неоднократно проявлялось в его музыке, а здесь оно особенно ярко заявляет о себе благодаря специфическому применению модальности. Прелюдии и фуги создает не традиционная для западноевропейской музыки мажоро-минорная гармония, а лады, встречающиеся в русской народной и духовной музыке, с помощью которых в XIX веке добивались таких замечательных эффектов представители «Могучей кучки», в особенности Модест Мусоргский. Стремление Шостаковича к тесным связям с традицией легко объяснимо, если принять во внимание период, когда создавалось это, несомненно, самое значительное после 1948 года произведение. Любые смелые поиски грозили резкой критикой, с которой, впрочем, и так встретились некоторые прелюдии и фуги, отличающиеся необычным языком и менее связанные с прошлым.
Новое сочинение выдержало испытание временем, вошло в репертуар многих пианистов, как советских, так и зарубежных. Оно имело огромное значение и для самого Шостаковича, композиторская работа которого после 1948 года ограничивалась почти исключительно выполнением навязанных ему и губительных для его искусства требований, бесспорно, тормозивших его творческое развитие в течение ряда лет. С момента принятия постановления об опере «Великая дружба» из-под его пера выходили такие произведения, как «Песнь о лесах», песни на малосодержательные стихи Долматовского, а в основном музыка к пропагандистским кинофильмам — «Мичурин», «Встреча на Эльбе», «Падение Берлина», «Белинский», «Незабываемый 1919 год». Кирилл Кондрашин вспоминал, что вскоре после событий 1948 года Шостакович, которого коллеги спросили, над чем он сейчас работает, с горечью ответил: «Я сейчас для фильма пишу музыку. Неприятно, что приходится это делать. Я вам это советую делать только в случае крайней нищеты, крайней нищеты»[382].
И только для себя, порой без всяких надежд на исполнение, композитор создавал творения, имеющие непреходящую ценность. Наряду с уже упоминавшимися Еврейскими песнями и Скрипичным концертом можно назвать прекрасный Четвертый струнный квартет (1949), так же, как и эти два сочинения, опирающийся на мелодику еврейской музыки, и 2 романса на слова Лермонтова (1950; впервые исполнены только после смерти автора). В дальнейшем список произведений, написанных «в стол», пополнили родственные Прелюдиям и фугам Четыре монолога на слова Пушкина и одно из лучших камерных сочинений Шостаковича — Пятый струнный квартет (оба произведения появились в 1952 году). Для окружающих же Шостакович был прежде всего композитором, вовлеченным в политические дела и использующим музыкальный язык, который, по мнению многих музыкантов, лишь в незначительной степени был связан с его прежними, лучшими работами.
Наступил 1953 год. Он не обещал никаких перемен к лучшему, так что ближайшее будущее Шостаковича, как и ряда других советских музыкантов, не располагало к оптимизму. Террор, бушевавший по всей стране, достигал размаха, напоминающего вторую половину 1930-х годов. Еще 13 января 1948 года сотрудники Министерства госбезопасности Убили в Минске великого еврейского актера Соломона Михоэлса. Чтобы придать его смерти видимость несчастного случая, тело подложили под колеса грузовика, а затем привезли в Москву, где организовали торжественные похороны. Зять Михоэлса, находившийся с Шостаковичем в дружеских отношениях композитор Моисей Вайнберг, был арестован. Шостакович писал письма к Берии, хлопотал об освобождении талантливого коллеги, но безуспешно.
В рамках идеологического образования композиторов были введены обязательные курсы, посвященные «научной деятельности» Сталина. Через много лет друг композитора Исаак Гликман вспоминал: