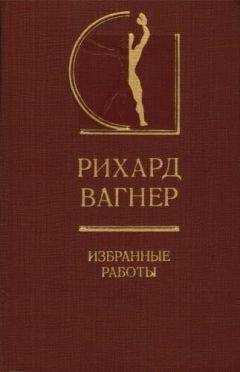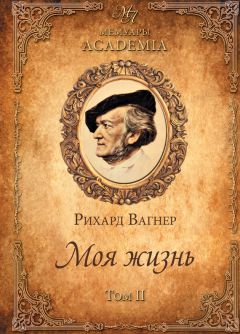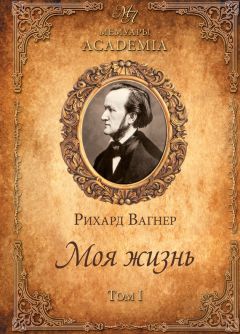Мария Залесская - Вагнер
С возвращением Франсуа Вагнеру стало казаться, что от его пребывания в Мариафельде хозяин испытывает некий дискомфорт. Возможно, доктор Вилле действительно опасался, что нуждающийся композитор станет просить у него денег, а ему будет неудобно отказывать, или ему были неприятны слишком тесные, хотя и абсолютно невинные отношения гостя с Элизой. Вагнер предпочел не ждать дальнейшего развития событий и 30 апреля отбыл в Штутгарт, где рассчитывал на помощь Карла Эккерта, с которым познакомился еще в 1858 году. Тот недавно получил место капельмейстера Штутгартского королевского театра.
Он не ошибся — Эккерт встретил его как старого доброго друга и устроил наилучшим образом. Вагнер надеялся в спокойной обстановке наконец закончить первый акт «Нюрнбергских мейстерзингеров», получить за них аванс и жить в «величайшем уединении, вдали от всех», одновременно «пустить в ход все усилия, чтобы раздобыть денег».
И вот однажды вечером, 3 мая, сидя в гостях у Эккерта, Вагнер получил «в довольно поздний час карточку какого-то господина, называвшего себя „секретарем короля Баварии“». Он вспоминал: «Очень неприятно пораженный тем, что местопребывание мое в Штутгарте уже стало известно проезжающим, я велел сказать, что меня нет, и вскоре после того вернулся к себе в гостиницу»[405]. Он не без оснований опасался, что его ищут кредиторы…
Именно так начался новый этап в жизни Рихарда Вагнера, определивший не только его дальнейшую судьбу, но и жизнь еще одного человека — баварского короля Людвига II. Взаимопроникающее влияние этих двух личностей друг на друга настолько велико, что их имена слиты в истории в некое единое целое; невозможно говорить об одном, не упоминая другого[406]. И для полного раскрытия образа Вагнера требуется остановиться более подробно на личности короля Людвига.
Из монархов второй половины XIX века вряд ли найдется венценосец, который более обращал на себя внимание и историков, и общества, и деятелей различных искусств, чем Людвиг II Баварский. Причем оценка его царствования учеными-историками прямо противоположна оценке его личности литераторами и художниками. Находясь на вершине власти, он воплотил в себе в наивысшей степени все противоречия «века романтизма» — в этом он, пожалуй, как никто близок Вагнеру. Людвиг — настоящий герой новелл Роберта Шумана или Эрнста Теодора Амадея Гофмана. И он же — реальная историческая личность, приведшая свою страну к глубочайшему кризису. Многие события его жизни, а особенно смерти до сих пор остаются покрытыми непроницаемой тайной и вряд ли когда-нибудь станут известны широкой публике, как и положено для настоящего романтического героя. Людвиг II — такой же Романтик с большой буквы, как и Рихард Вагнер!
Людвиг был представителем древнего рода Виттельсбахов. Характерно, что Витгельсбахи одними из первых в Европе стали покровительствовать наукам и искусствам. Так, уже в 1422 году баварский герцог Иоганн Витгельсбах пригласил к своему двору знаменитого художника Яна ван Эйка[407], заложив тем самым первый камень в последующее здание «виттельбахского Парнаса». Впоследствии многие представители рода были просвещенными любителями прекрасного, уделяя изящным искусствам чуть ли не больше времени и внимания, чем государственным делам.
Людвиг I, дед Людвига II, с юных лет сочинял стихи, писал картины, коллекционировал произведения искусства. Он считал своей задачей сделать из Мюнхена культурную столицу Германии. При нем были построены знаменитые Старая пинакотека — картинная галерея с богатейшей коллекцией европейской живописи XIV–XVIII веков — и Новая пинакотека, экспонирующая произведения художников XIX (позднее и XX) века, а также Глиптотека, в которой представлено одно из лучших в Европе собрание античных скульптур.
Его сын Максимилиан II, отец будущего Людвига II, став королем, также окружил себя художниками, поэтами, архитекторами и учеными.
Так что для Людвига II было вполне естественно продолжить традицию своего рода. Он был достойным внуком и сыном. Страсть к искусству и архитектуре захватила его целиком.
Своеобразная мистическая связь с кумиром Людвига Рихардом Вагнером, можно сказать, началась с самого рождения будущего короля: он появился на свет в 1845 году, когда композитор закончил либретто своего «Лоэнгрина». Он работал над либретто почти три года, начав в 1842-м — тогда же, когда был заключен брак родителей Людвига (еще один знак свыше!). Впоследствии опера о Лебедином рыцаре станет роковым лейтмотивом в судьбе Короля-лебедя, как называли Людвига; даже свою смерть он найдет в водах озера, где и по сей день плавают прекрасные белые лебеди, словно напоминая о своем покинувшем эту землю короле.
Живший в мире собственных грез, с детства воображавший себя шванриттером[408], король, предпочитавший одиночество любому самому блестящему обществу, тем не менее, искал в реальной жизни того, кто мог бы понять его натуру, кого мы бы сейчас назвали духовным учителем, гуру. Сам по себе поиск такой поддержки, безусловно, говорит о слабости или глубоком отчаянии того, кто ее ищет. Это не что иное, как неосознанное желание получить защиту, стремление опереться на сильное плечо или столь же неосознанное бегство от одиночества, поднятого на знамя в реальной жизни: «Я одинок, но всё же я такой не один». Ведь должен же быть где-то человек, близкий по духу, тот учитель, который должен воплощать в себе самые дорогие для ученика идеалы, наиболее страстно желаемые для претворения в жизнь. И здесь не имеет значения социальный статус — подобные настроения могут быть свойственны как простому смертному, так и королю.
Вагнер и стал для Людвига таким учителем. В его произведениях представал тот мир, в который Людвиг всей душой стремился убежать от действительности. Герои вагнеровских опер — это сам Людвиг, воплощения различных сторон его личности. Он и Лоэнгрин, и Зигфрид, и Тристан, и Тангейзер, и Летучий голландец… Композитор сумел увидеть, понять и воплотить все грани души короля. Значит, Вагнер — божество. И это божество понимает его, одинокого; с ним можно открыто говорить обо всем, и при этом он, будучи композитором, апеллирует не столько к рациональному, сколько к эмоциональному началу.
Будет большой ошибкой и полным непониманием личностей Людвига и самого Вагнера считать, что в их отношениях король покровительствовал композитору. В материальном плане — да, но в эмоциональном — скорее, наоборот, композитор снисходил до короля, владыка вечного идеального мира милостиво благоволил владыке мира бренного. В отличие от столь же глубокой и искренней дружбы с Листом, где гении были на равных, в общении с Людвигом Вагнер занимал главенствующую позицию. И всё же ни один из них не стал бы тем, кем стал, без другого.
Считается, что Людвиг впервые услышал музыку Вагнера и узнал о его существовании в день своего шестнадцатилетия, 25 августа 1861 года[409]. Это маловероятно уже потому, что слава Вагнера-композитора гремела по всей Германии, а Людвиг, страстно интересовавшийся театром, просто не мог не знать о немецком гении. Существует признание самого короля — правда, написанное позднее — в том, что он познакомился с личностью Вагнера сначала даже не по его музыке, а по его философско-литературным трудам, и случилось это не позднее 1860 года: «Я читал, перечитывал и чувствовал себя совсем очарованным! Да, это было совершенно то, что я понимал в задаче искусства! Это именно то слияние поэзии с музыкой, которое должно проявить искусство будущего![410] И это принадлежало человеку, чувствовавшему в себе силу создать нечто такое возвышенное, такое чудесное! Это чувствовалось в его словах, которые низвергались потоком лавы, которые должны были привести к доброму концу избранное им призвание, потому что он владел тою печатью гения, которая идеал превращает в действительность (курсив наш. — М. З.). И у этого героя духа были связаны крылья; презренные препятствия мешали его небесному полету и приковывали его к земле! Он искал человека, который имел бы возможность и желание помочь ему… Вскоре после того я услышал „Лоэнгрина“… Воспитанный в Hohenschwangau[411], я в плоть и кровь воспринял эту легенду о Лебедином рыцаре, полную такой невыразимо поэтической прелести! Сколько раз, сидя во дворе замка под цветущими липами, осенявшими образ Богоматери, я мечтал об этой легенде. Сколько раз в своих мечтах я видел этого рыцаря, плывущего по воде со своим верным лебедем. Тут я нашел мечты моего детства, мои фантазии юноши олицетворенными чудным образом. И они, эти столь знакомые мне образы, говорили мне в опьяняющих меня звуках, как сладкий аромат цветущих лип… Как мы стали друзьями, друзьями в самом возвышенном, идеальном смысле этого слова, которым так злоупотребляли, знает свет. И этот свет, который я никогда не любил, делает то, что я всё более и более удаляюсь от него в себя самого и в тот маленький кружок людей, которые думают, как я, которые понимают нашу дружбу… Бог в своей благости дал мне радость найти возможность осуществить планы моего дорогого друга и быть для него в самом маленьком размере тем, чем он был для меня в бесконечном»[412].