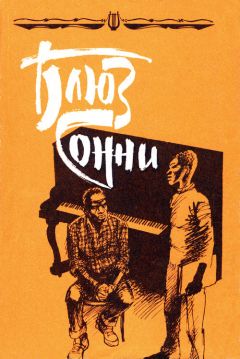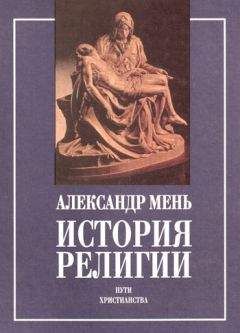Эдуард Мёрике - Блюз Сонни: Повести и рассказы зарубежных писателей о музыке и музыкантах
— О, как вы восхитительны, — сказал я. — Но я же говорил вам, что это не званый вечер.
Она окинула Питера быстрым взглядом черных глаз.
— Нет, это именно званый вечер, а как же иначе? Вы мне сказали, что ваш друг — талантливый писатель. Я же — только исполнительница. — Она провела пальцем по сверкающим браслетам, — Это знак почтения к художнику-творцу.
Я удержался от крепкого словечка, которое чуть было не сорвалось с моих губ, но предложил ей коктейль — я знал, какой коктейль она любит. Мне была дарована привилегия называть ее Марией, а она всегда звала меня маэстро. Делала она так, во-первых, понимая, что я при этом чувствую себя полным идиотом, и, во-вторых, хоть в действительности она была моложе меня всего лишь на два-три года, этим она явственно подчеркивала, что принадлежит к другому поколению. Однако иногда она называла меня «нахальный тип». В тот вечер она вполне могла сойти за тридцатипятилетнюю. Черты лица у нее были довольно крупные и как-то не выдавали ее возраста. На сцене она была прекрасна, и даже в частной жизни, несмотря на большой нос, широкий рот и полные щеки, казалась привлекательной. Она загримировалась под смуглянку, наложила темные румяна, а губы у нее были ярко-алыми. Она выглядела совсем как испанка, и полагаю, что ощущала себя испанкой, потому что в начале обеда у нее был совершенно севильский акцент. Мне хотелось, чтобы она разговорилась и чтобы Питер смог выудить из нее как можно больше, а я знал лишь одну тему в мире, на которую она могла говорить. Собственно, она была женщиной неумной, но научилась бойко болтать, а потому при первой встрече казалась людям выдающейся личностью, но все это было лишь игрой, и вскоре вы обнаруживали, что она не только не знает, о чем говорит, но ни в малейшей степени не интересуется предметом разговора. Не думаю, чтобы она за всю жизнь прочитала хоть одну книгу. Ее знания о том, что происходит в мире, были ограничены сведениями, которые она собирала, просматривая картинки в иллюстрированных журналах. Ее разговоры о любви и музыке были пустой болтовней. Однажды на концерте, где я был вместе с ней, она проспала всю Пятую симфонию, и я пришел в восторг, услышав позднее, как она говорит кому-то, до чего Бетховен ее волнует, — она даже колебалась, стоит ли идти его слушать, ибо, если в голове будут звучать эти героические темы, она всю ночь не сомкнет глаз. Так оно и было, настолько крепко она вздремнула во время исполнения симфонии, что ночной сон был ей уже ни к чему.
Но существовала одна тема, которой она никогда не переставала интересоваться. Она развивала ее с неослабевающей энергией. Никакие препятствия не мешали ей возвращаться к этой теме, любое случайно оброненное слово она могла использовать в качестве мостика, чтобы вернуться к ней, и при этом проявляла такие недюжинные умственные способности, которых в ней нельзя было подозревать. В разговорах на эту тему она могла быть остроумной, живой, философичной, печальной и изобретательной. Она призывала на помощь всю свою выдумку, проявлениям которой не было конца, а разнообразию — границ. Этой темой была она сама. Я предоставил ей возможность один раз наскочить на эту тему, а дальше от меня требовалось только вставлять подходящие междометия.
Она была в ударе. Мы обедали на природе, и полная луна услужливо освещала море, лежавшее перед нашими глазами. Сама природа, будто приноровившись к такому случаю, создала чудесную декорацию. Сцена была окаймлена двумя высокими черными кипарисами, а нашу террасу со всех сторон окружали цветущие апельсиновые деревья, которые источали пьянящий аромат. Воздух был недвижим, и свечи на столе горели ровно и мягко. Освещение было самым подходящим для Ла Фальтероны. Она сидела между нами, с аппетитом ела, вполне одобрила шампанское и испытывала истинное наслаждение. Она бросила взгляд на луну. На море блестела широкая серебряная дорожка.
— О, как прекрасна природа, — сказала Ла Фальтерона. — Боже мой, и с какими только декорациями не приходится играть! Как же при этом можно петь? Знаете, декорации в Ковент-Гардене просто возмутительные! В последний раз, когда я там пела Джульетту, я им сказала, что больше не выйду на сцену, пока они не сделают что-нибудь с луной.
Питер слушал молча. Он ловил каждое ее слово. Она представляла собой большую ценность, чем я осмеливался мечтать. Ее пьянило не только шампанское, но и собственная говорливость. Послушать ее — так можно было подумать, что она кроткое и незлобивое создание, против которой весь мир. Вся ее жизнь была бесконечной жестокой борьбой с ужасными несправедливостями. Менеджеры поступали с ней подло, импресарио шутили скверные шутки, певцы объединялись, чтоб ее разорить, критики, подкупленные ее врагами, писали о ней скандальные статьи, любовники, ради которых она приносила в жертву все, платили черной неблагодарностью, и тем не менее она всем им нанесла поражение благодаря своей гениальности и редкой сообразительности. С неподдельной радостью, с сияющими глазами, она рассказывала нам, как разоблачила их махинации и какие бедствия постигли негодяев, стоявших у нее на пути. Я только удивлялся, как у нее хватает духу разглашать эти позорные истории. Не отдавая себе ни малейшего отчета в том, что она делает, она рисовала себя мстительной, завистливой, черствой, невероятно тщеславной, жестокой, эгоистичной, корыстной интриганкой. Время от времени я украдкой бросал взгляды на Питера и с удовольствием думал о том смущении, которое он должен был испытывать, сравнивая идеальный образ примадонны с безжалостной действительностью. У Ла Фальтероны не было сердца. Когда она наконец ушла, я повернулся к Питеру с улыбкой.
— Ну, — сказал я, — теперь, во всяком случае, у вас есть подходящий материал.
— О да, и все это настолько к месту, — заявил он с энтузиазмом.
— Разве? — воскликнул я, ошеломленный.
— Ла Фальтерона — точь-в-точь моя героиня. Она никогда не поверит, что я набросал основные черты ее характера, прежде чем встретился с ней.
Я в изумлении воззрился на него.
— Страстная любовь к искусству. Бескорыстие. В ней есть душевное благородство, которое стояло перед моим мысленным взором. Мелочное, пошлое, пустое воздвигало перед ней преграды, но она сметала все со своего пути лишь благодаря величию и чистоте цели. — Он издал счастливый смешок. — Ну разве не удивительно, как природа копирует искусство? Клянусь вам, я попал в самую точку.
Я открыл было рот, но придержал язык и только мысленно пожал плечами. Питер увидел в ней то, что хотел увидеть. В его иллюзиях было нечто сродни красоте. Он был в своем роде поэт. Мы пошли спать, а через два-три дня, найдя подходящее для себя пристанище, он от меня уехал.
Вскоре вышла его книга, и, как это обычно бывает со вторыми романами молодых писателей, успех ее был весьма скромен. Критики перехвалили его первое достижение, а теперь были чрезмерно строги. Без сомнения, написать роман о себе и о людях, которых ты знал с детских лет, — совсем не то, что создать книгу о героях вымышленных. Роман Питера был слишком длинным. Дар словесной живописи изменил ему; юмор все еще был грубоват, но Питер мастерски воссоздал эпоху, и в этой романтической истории ощущался тот же трепет истинной страсти, который так поразил меня в его первой книге.
После памятного обеда в моем доме я не видел Ла Фальтероны больше года. Она отправилась в длительное турне по Южной Америке и вернулась на Ривьеру лишь в конце лета. Однажды вечером она пригласила меня отобедать у нее. Мы были одни, если не считать ее компаньонки-секретарши, англичанки по имени мисс Глейзер, с которой Ла Фальтерона обращалась ужасно — запугивала ее, била и ругала, но без которой и шагу ступить не могла. Мисс Глейзер была осунувшаяся особа лет пятидесяти с седыми волосами и желтоватым морщинистым лицом. О Ла Фальтероне ей было известно все. Она одновременно обожала и ненавидела ее. Она могла позлословить на ее счет, иногда потихоньку от великой певицы и ее обожателей копировала ее — я в жизни не видывал ничего смешнее. Но она следила за ней, словно мать. Это она, действуя то с помощью лести, то в открытую, вынуждала Ла Фальтерону поступать достойным образом. Это она написала изобилующие ошибками мемуары певицы.
Ла Фальтерона была в бледно-голубой атласной пижаме (ей нравился атлас), в зеленом шелковом парике, по-видимому, для предохранения волос; драгоценностей она не надела, если не считать нескольких колец, жемчужного ожерелья, пары браслетов и алмазной броши на корсаже. У нее было что порассказать мне о своих триумфах в Южной Америке. Она тараторила без умолку. Никогда она не пела лучше, и овации, сорванные ею, ни с чем не могли быть сравнимы. Каждое выступление давало полные сборы, и Ла Фальтерона отхватила солидный куш.
— Так или не так, Глейзер? — кричала Мария. В голосе ее слышался сильный южноамериканский акцент.