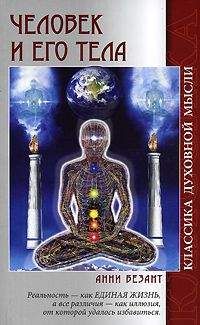Фаина Оржеховская - Воображаемые встречи
Помню, как я однажды уже очень поздно улегся, разбитый, подавленный мыслью, что так и не нашел мотива для характеристики своего Тассо[136]. Все мелодии казались мне вымученными, слишком изысканными, немелодичными. «Тассо — герой, — думал я, — у него мужество, воля, сила. Все это так. Но ведь это с избытком есть и у Прометея. В чем же особенность Торквато Тассо, итальянского поэта? Что отличает его от других?»
Я незаметно уснул, так и не разрешив этих сомнений.
Может быть, слово «итальянский» осталось в моей памяти и не покидало ее больше. Но в ту ночь мне приснился приятный сон: будто я скольжу по каналу в черной гондоле и не то прислушиваюсь к пению гондольера, не то сам напеваю задумчивую мелодию, которая мне необыкновенно мила. И характер этой песни, близкой к венецианским «гондолеттам»[137], радует меня…
Проснувшись, я вскочил с постели, ощущая прилив сил. Солнце хлынуло в окна, и в ту же минуту я, к своему счастью, вспомнил ночную песню всю целиком. И тут же понял, что эта неожиданно обретенная мелодия и есть наилучшая тема Торквато Тассо.
А «Фауст-симфония»! Бог ты мой, как мучился я, думая о Мефистофеле! Тема Фауста, сложная, полная противоречий, далась мне сравнительно легко. Многие из нас пережили фаустовские муки. Вся моя прошедшая жизнь могла быть преддверием к этой теме. Маргарита — образ девической прелести и чистоты. Я и для нее нашел музыкальный рисунок. Немало таких девушек встречал я в жизни и не раз, глядя на них, вспоминал:
Ты, как цветок весенний,
Чиста, нежна, мила.
Любуюсь я, но на сердце
Скорбная тень легла.
Но Мефисто? Дух отрицания! Как передать его в музыке? Разве есть такой звукоряд, который способен воплотить зло? Да, его можно изобрести, но будет ли это музыкой? А я хорошо помню завет Моцарта: в музыке все должно быть музыкально.
Все, к чему ни прикасается Мефистофель, теряет свои лучшие свойства. Он издевается над разумом, над чистотой, стремится унизить их, исказить. Именно «исказить». И это определение, как слово «итальянский» в характеристике Тассо, помогло мне. Я нашел способ, ловушку для Мефистофеля. Отныне ты у меня в руках, как ты ни изворотлив!
У тебя нет своего лица, своего облика. Ты живешь чужими мыслями, извращая их. У тебя нет души. Зачем же дарить тебе самостоятельную мелодию? Искаженный Фауст, искаженная Маргарита, искаженные темы их обоих — вот твой истинный музыкальный облик.
Так я и построил свою симфонию. Первую часть назвал «Фауст», вторую — «Маргарита», третью — «Мефистофель». Но Мефистофель не имеет темы. Это лишь драматически-карикатурное преломление мелодий Маргариты и Фауста.
Мне и сейчас приятно вспомнить, как я пришел к своей выдумке. Я еще буду разгадывать вас, извечные тайны искусства!
8
Моя дочь Козима иронически посмеивается, когда я рассказываю ей о встречах с хорошими людьми. И ведь странно, что многие эти встречи происходили у нее на глазах.
— Ты ужасно восторженный! — говорит она. — Где ты их выкопал? Можно подумать, что мир кишит замечательными личностями!
— Вот именно — «выкопал». Это ты хорошо сказала. Разумеется, если ждать, что набредешь на сокровища, это может и не случиться. Но если искать неутомимо, с верой в душе, окажется, они лежат не так уж глубоко. А если и глубоко? Почему не пытаться добыть их? Но мы не замечаем и того, что близко.
— Я и забыла, что ты счастливчик, — говорит Козима с легким пренебрежением и горечью, заметной лишь для меня. — Тебе чертовски везло!
В этом она права. «Везло»! Разве это не подарок судьбы, что ко мне в Веймар приехал однажды, — нет, не приехал, а забрел не кто иной, как Ганс-Христиан Андерсен? Метель была страшная, и он порядочно промерз. Об этом можно было догадаться по его носу, но не по глазам. Они излучали такое тепло, что от этого даже в моей комнате стало уютнее. Козима не может не помнить этого — она сама открыла ему дверь.
Как всегда, у меня были гости, и среди них Иоганнес Брамс.
Портрет Андерсена был еще неизвестен. Наружность у него не такая, чтобы сразу признать в нем великого поэта. И заговорил он просто о совсем обыкновенных вещах: о погоде — брр, какой ветер! Но все мои гости переменились, притихли еще до того, как я представил им Андерсена. До его прихода они были в каком-то хмуром настроении, особенно Брамс. Он ни за что не хотел играть, несмотря на просьбы. А тут неожиданно, хотя уже просить давно перестали, он сам вызвался показать свои песни в народном духе. И играл и пел, а чудесный гость сидел в углу и улыбался. А Козима? Царь милостивый, что произошло с этой девчонкой? Она суетилась, сама принесла Андерсену шоколад и печенье, сама — о чудо! — осведомилась, не горячо ли, сладко ли… Я все это хорошо помню. И когда играл Брамс и другие, она смотрела не на Брамса и других, а на этого северного гостя и не сводила глаз с его лица, с его впалых щек…
— Неужели ты забыла, Козима? Ты даже сейчас улыбаешься…
— Нет, я не забыла. Но я же говорю, что тебе очень везло.
Мне всегда казалось, что люди больше таят, чем обнаруживают. Вот почему я никогда не ограничивал свои знакомства определенным кругом. Мне претит кастовость музыкантов. Впрочем, даже в своем кругу мы бываем нетерпимы.
Я… ищу. Не довольствуясь тем, что мне присылают композиторы, я и сам стараюсь услыхать какую-нибудь новинку. Посещаю не только академические, но и садовые концерты, прислушиваюсь, не промелькнет ли новое имя. Тех, кто приходит ко мне, я приглашаю снова, потому что не всегда можно узнать человека с первого раза. Иногда он сам виноват в этом, а чаще — тот, к кому он обращается. Случай с молодым Вагнером всегда встает в моей памяти.
Некоторых я узнавал заочно — по их музыке. Потом удивлялся, что они оказывались не такими, как я представлял себе. Гуго Вольф, судя по его романсам, никак не мог быть юным, застенчивым мальчиком. Мне казалось, это человек, умудренный жизнью. И вот он явился — краснеющий, робкий, лет шестнадцати на вид.
Несоответствие между музыкой и внешним обликом, хотя и в другом роде, нашел я и у Цезаря Франка, и у Дворжака. И только один оказался совершенно таким, как его музыка.
Я нашел сонату Эдварда Грига в лавочке у букиниста. А когда он сам приехал в Рим по моему приглашению, я подумал, что все равно узнал бы его по этой сонате — он был такой же молодой, умный, ясный. Он рассказывал мне о своей жизни без малейшей попытки украсить ее, и все-таки она была похожа на сказку. Встречи Грига (чего стоит один только полулегендарный Оле Булль)[138] его женитьба, дружба с Нордраком, эти фиорды, среди которых вырос Григ, — во всем этом неисчерпаемая поэзия. Я слушал его, играл его пьесы и думал: «Ты превращаешь в поэта каждого, кто узнаёт тебя».
Я захотел сделать ему сюрприз и сыграл его фортепианный концерт в присутствии многочисленных гостей и самого Грига, который не знал, что именно я буду играть. Парень был ошеломлен, а я очень доволен своей выдумкой. И, право, не знаю, кому все это доставляло большую радость: мне или ему. И, когда в письмах он повторяет: «Вы так много сделали для меня», я только усмехаюсь. Тебе и невдомек, милый Пер (ибо в тебе лучшая половина Пер Гюнта, остальную пусть съедят тролли!) [139], тебе и в голову не приходило, что значила для меня эта встреча с тобой, это новое подтверждение моей веры в людей!
Вчера был разговор с Каролиной. Не любя Вагнера, она переносит свою антипатию на Козиму и даже уверяет меня, что я не могу любить такую заносчивую и неблагодарную дочь, — ведь мы с ней несколько лет не встречались. При всем своем уме Каролина не может понять, что нередко мы любим людей, которые нам не нравятся, и что чаще всего — это наши собственные дети. От этого мы любим их не меньше, во всяком случае — болезненнее.
Козима всегда внушала мне беспокойство. Не обладая никакими особенными талантами, она, что называется, творческая натура и жаждет многого, в чем отказала ей природа. Бедное дитя, я виноват перед ней. Ее мать так часто восстанавливала ее против меня, так умела пользоваться недостатками Козимы и заглушать все лучшее, что было в ее натуре, что я поверил, будто девочка не любит меня. Я ошибался. Было совсем нетрудно привлечь к себе эту чуткую, хотя и неподатливую натуру и воспитать ее по-своему. Но я упустил этот случай или много случаев, а потом, чем дальше, тем хуже: Козима становилась все упрямей. И было уже невозможно влиять на нее.
В те годы, когда многие девушки бывают счастливы и беспечны, — от шестнадцати до двадцати, — Козима доставляла мне одни огорчения. До той поры она была застенчивой, скромной, как и ее сестра Бландина, а тут проявилось в ней своеволие, и неукротимость, и недовольство собой, и наряду с этим самоуверенность и надменность. Подруги отвернулись от Козимы, только кроткая старшая сестра оставалась с ней. Но именно Бландина, с которой она не расставалась прежде, стала внушать Козиме непонятное раздражение и враждебность. Чем терпеливее и мягче обращалась с ней Бландина, тем сильнее ожесточалась обозленная девочка, хотя в иные минуты со слезами просила у сестры прощения.