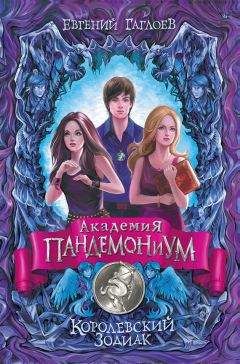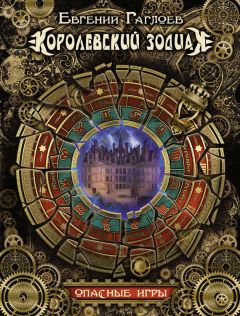Сергей Федякин - Рахманинов
Сцена в Пизе — это муки ревности Гвидо, восхищение толпы героической Монной Ванной, нежелание начальника гарнизона поверить в то, что Принчивалле вёл себя благородно. Пусть Джованна признается, что ей пришлось действительно жертвовать собой, или её спутник будет казнён. Она готова лгать во спасение благородного Принчивалле. Всё разрешается. Гвидо словно очнулся от тяжёлого сна. Джованна говорит: после тяжёлого сна начинается светлый.
Мотивы «Саламбо» узнаваемы в этом сюжете. И осаждённый город, и плащ-покрывало, и женщина в стане врага. И только конец вместо гибели героев говорит о другом, словно повторяя мотив знаменитой драмы Кальдерона: «Жизнь есть сон».
* * *Совсем погрузиться в работу мешает обычное, земное. Сначала время уходит на поиски квартиры. Потом — на обстановку.
Стоял ноябрь, но было тепло. На Сидониенштрассе приглянулась двухэтажная вилла, по три комнаты на каждом этаже, и все — на солнечной стороне, где много света. Сама планировка радовала: наверху — спальни, внизу — кабинет и столовая. Он мог заниматься, никому не мешая.
В день переезда, 9 ноября 1906-го, появился и рояль. Начало новой жизни было хлопотным, но жил он в предвкушении творчества. Правда, пришлось повозиться с мебелью и посудой. Пустой оставалась гостиная, и этим доставляла композитору удовольствие: можно было выйти во время занятий и просто прогуляться среди пустых стен, слушая свои шаги.
К городу надо было привыкнуть. В письмах Рахманинов делится со знакомыми: «Тысячу сортов колбас и сосисок лежат одна на другой на окне и образуют какой-то рисунок, а главное не разваливаются». Казалось, это могло даже понравиться. Но рядом трезвое: «Чего тут только не наворочено». И — словно руками разводит: «И кто только этим занимается, и кому это нужно!»[137]
Музыкальная жизнь Дрездена много интереснее обыденной. Первое — Рихард Штраус, композитор, которым некоторые старомодные российские критики пугали доверчивых слушателей. Его опера «Саломея» ставилась по всей Германии. «Строгий» слух Рахманинова впивался в эти звуки и с восхищением, и с настороженностью. Два адресата, Морозов и Керзина, узнают об этом впечатлении. Первому, по ещё горячим ощущениям, пишет: был, слушал, пришёл в восторг. «Больше всего от оркестра, конечно, но понравилось мне многое и в самой музыке, когда это не звучало уж очень фальшиво». Те диссонансы, которых не стеснялся немецкий композитор, Рахманинова всё-таки «царапали»… «И всё-таки Штраус — очень талантливый человек. А инструментовка его поразительна. Когда я, сидя в театре и прослушав уже всю „Саломэ“, представил себе, что вдруг бы сейчас, здесь же заиграли бы, например, мою оперу, то мне сделалось как-то неловко и стыдно. Такое чувство, точно я вышел бы к публике раздетым. Очень уж Штраус умеет наряжаться».
Как много в этом восклицании: «всё-таки»! Музыка Рахманинова, сама её природа, требует скупости выразительных средств. В ней много исторической памяти. И в ней словно бы возрождается то самое чувство совершенства, которое запечатлелось некогда русскими зодчими в небольшой церкви Покрова на Нерли. Простота, в которой тихо светится вечность.
Красочная оркестровка Рихарда Штрауса — и сдержанная, скромная Рахманинова. При первом прослушивании яркость красок всегда производит впечатление. Но музыка приходит второй раз, третий… И то, что сперва восхитило, начинает раздражать. И то, что раньше показалось слишком простым, даже невзрачным, вдруг обретает глубину и подлинность.
Пройдёт более недели, и Керзиной Сергей Васильевич скажет о Штраусе сдержаннее, хотя опишет те же самые впечатления: «Кой-что мне понравилось и в музыке, но лучше всего исполнение оркестра. И этот оркестр, говорят, разучивал эту мудрёную музыку чуть не два месяца. Действительно, идёт так гладко, тонко, стройно — что остаётся только поражаться и снять перед ними шапку. И публика здесь такая, перед которой стараться стоит: сидит спокойно и смирно, не кашляет и не сморкается».
Суматоха первых дней в Дрездене скоро поутихла. Образ жизни у Рахманиновых установился самый простой: «Никого не видим и не знаем, и сами никуда не показываемся и знать никого не желаем». К этому в письме Керзиной не без юмора прибавит: «Всех боимся». Чуть позже — ещё присовокупит: «Я целый день занимаюсь, Наташа целый день скучает, и Ирина целый день разбойничает и поёт песни. И песни у неё какие-то дикие, отчаянные и резкие, точно она только и поёт из „Саломэ“ Рихарда Штрауса».
Постоянно композитор переписывается с друзьями — Слоновым и Морозовым. Первого торопит с либретто «Монны Ванны» и настоятельно просит хранить идею в секрете. От второго мечтает получить то указание на пригодный текст для кантаты, то литературную программу для симфонической фантазии. О том, что пишет симфонию, говорит лишь глухими намёками («есть другая работа»).
Без друзей, с которыми можно поговорить о музыке, жить было непривычно. Один только раз его уединение нарушил Гольденвейзер с женой. Он был приглашён Кусевицким для участия в концертах — в Берлине и Лейпциге. Заехал в Дрезден: посмотреть знаменитую Дрезденскую галерею и навестить Сергея Васильевича. После Александр Борисович будет вспоминать и милый особнячок во дворе, в саду, и тёплый дом Рахманиновых, и задушевную беседу.
* * *Этот тихий, старинный и красивый город был уютен. К тому же рядом — ехать менее двух часов — Лейпциг. А там — дирижёр Никиш и насыщенная музыкальная жизнь.
В Дрездене Рахманинов проживёт три сезона. Ностальгия была частым гостем в его душе. Её он лечил Ивановкой: каждое лето семья Рахманиновых переезжала в родные места.
Опера, симфония, соната — он думал сразу о трёх произведениях. Ощущал, насколько зыбки жанровые границы его ещё не рождённых сочинений, сонату одно время хотел превратить тоже в симфонию, но потом отчётливо услышал её фортепианную основу. Работа не шла, когда нездоровилось Ирине, к тому же с декабря холод поселился в доме. Мешало и написанное ранее: он возится с корректурой последних романсов, перерабатывает — для скорых концертов — трио «Памяти великого художника», просматривает сцены из «Франчески» и «Скупого рыцаря».
Новые произведения рождались, будто соревнуясь друг с другом. Над либретто к «Монне Ванне» корпел Миша Слонов. Но только перекладывал, не очень видел драматургический план, не умел мыслить сценами. И Рахманинов сам определял места кульминации. Форма финала симфонии получалась настолько непредвиденной («конечно, эта одна из окаянных форм рондо, которой я ни одной не знаю»), что он просил советов у теоретика музыки Никиты Морозова. Первые наброски к симфонии делал ещё летом 1903-го. К концу 1906-го точка поставлена, но сочинённым он пока явно недоволен. И Морозову, и Слонову повторит одну и ту же фразу: «Она мне жестоко надоела».
Вести из России приходили и отрадные, и невесёлые. За кантату «Весна» ему присудили Глинкинскую премию, сцены из «Франчески» и «Скупого рыцаря», исполненные Зилоти в Питере, вызвали довольно кислые отзывы. Вяло встретили и его романсы.
К неудачам Рахманинов отнёсся довольно спокойно: «„проваливаться“ — это моя полоса сейчас»[138]. О собственных недугах — перенатруженных глазах и очках, прописанных доктором, — пишет Морозову не без досады («…при усиленном писании или чтении глаза затуманиваются и голова сильно болит»), но и не без лёгкой усмешки («Мартышка в старости слаба глазами стала»).
В феврале 1907-го Рахманинов побывал в Лейпциге. На уроке Никиша увидел трёх учеников. Молодые дирижёры произвели столь удручающее впечатление, что в письме Никите Семёновичу не мог не ввернуть жестокую шутку: «Всех их трёх, по-моему, надлежит отправить к Столыпину, чтобы он их по законам военного положения повесил бы за их преступные мысли о дирижёрстве». Зато концерт самого Никиша привёл в восторг. Знаменитый маэстро исполнил Первую симфонию Брамса и Шестую Чайковского: «Понимаешь, это было в полном смысле слова гениально. Дальше этого идти нельзя, публика устроила бешеную овацию. Говорят, уже несколько лет ничего подобного по приёму не было. Кстати, и в этот раз, когда Никиш пришёл, хлопал только один человек, да и то это я был».
Позже он услышит «Мессу» Бетховена, «Самсона» Генделя, Мессу си-минор Баха, «Павла» Мендельсона. Пойдёт на «Тристана» и «Мейстерзингеров» Вагнера. От Бетховена и Вагнера — в восторге. В Генделе понравились два номера («в полном смысле — гениально!»), побывал и на оперетте Легара «Весёлая вдова»: «Хоть и сейчас написано, но тоже гениально. Я хохотал как дурак».
С апреля он начинает испытывать беспокойство: за пять месяцев написано много, но ничего не завершено. Собственная оценка написанного — более чем пристрастна.
«Насчёт качества всех этих вещей должен сказать, что хуже всего Симфония. Когда я её напишу, а затем поправлю свою первую Симфонию, я даю себе зарок не писать больше Симфоний. Ну их! Не умею, а главное, не хочется их писать». О сонате скажет чуть теплее: «Несколько лучше Симфонии, но всё-таки сомнительных достоинств». Об опере, «Монне Ванне», — с любовью: «Она — всё моё утешение. Иначе — я совсем бы замучился. Но она же дальше всех от конца. А посему, что я в ней дальше сделаю — ещё неизвестно».