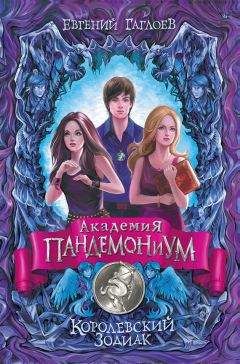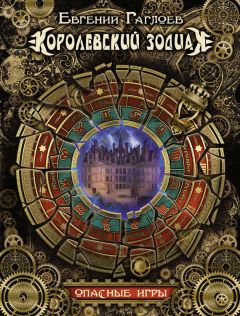Сергей Федякин - Рахманинов
Вместе со всеми радовался и Левко. С наслаждением прыгал в воду, плавал, перебирая лапами, а потом, на берегу, встряхивал шерстью, обдавая тех, кто стоял поблизости, холодным душем.
Чуть ли не каждый день звучал рояль. Сначала кто-нибудь из Сатиных скажет: «Серёжа, ну поиграй нам что-нибудь». Потом все вокруг настойчиво начинают просить о том же. Он садился за инструмент и уже долгое время не вставал: уходил в музыку.
В Красненьком он пробыл долго, до последних дней сентября. Там успел узнать невесёлую новость о Савве Ивановиче Мамонтове. Человек, состояние и душу положивший на создание российских железных дорог, на русское искусство, был арестован, обвинён в злонамеренном обмане акционеров и растрате их денег. Позже судом он будет оправдан, но прежней горячей деятельности уже не проявит.
Весточка Лёле Крейцер от Сони Сатиной, написанная 3 октября, словно подвела черту под этим временем, когда в Рахманинове стала понемногу пробуждаться музыка: «Серёжа просит вам всем кланяться и передать, что он очень скучает по воле и покое Красненького». Откуда взялся в письме этот пушкинский вздох — «На свете счастья нет, но есть покой и воля…»?
* * *Путь к творчеству — это путь к самому себе. Но и он не бывает без терний. Судьба словно испытывала его.
Об ипохондрии Рахманинова узнала княжна Александра Андреевна Ливен, попечительница благотворительных заведений, известная всей Москве. Узнала через Варвару Аркадьевну Сатину, свою добрую знакомую. Пожилая дама прониклась симпатией к Сергею Васильевичу. Хорошо зная Льва Николаевича Толстого, загорелась идеей иной благотворительности, душевной: знаменитый писатель встретится с молодым талантом и ободрит его.
Эти два московских вечера, 9 января и 1 февраля, Рахманинов запомнит на всю жизнь.
В хамовническую усадьбу Толстого ехали вместе с Шаляпиным[73]. В небе висела луна — белый, сколотый с левой стороны камень. Стоял мороз. Рахманинов прошептал: «Если попросят играть, не знаю как — руки у меня совсем ледяные».
Было тихо, пустынно. Снег во дворе, за калиткой, голубовато поблёскивал от молчаливого лунного света. В глубине темнел деревянный дом. В окнах верхнего этажа сквозил красноватый свет. Музыканты, не без робости, приблизились к крыльцу. Позвонили. Дверь открыл лакей… Тёплая, светлая прихожая, на вешалке — шубы. Далее — крутая лестница.
Позже композитор сбивался, сызнова переживая этот день. То ему казалось, что они вошли с Шаляпиным внутрь и он увидел Толстого и Гольденвейзера за шахматами. То припоминал, что Толстой сидел на площадке лесенки. Стояли рождественские дни, но Федя, войдя и раскинув руки, сказал почему-то: «Христос воскресе!» Лев Николаевич приподнялся, протягивая большую ладонь, холодно ответствовал: «Моё почтение». Из гостей, кроме Гольденвейзера, был, кажется, ещё Игумнов.
Бунин в своё первое посещение схватил облик Толстого цепко: «Быстрый, лёгкий, страшный, остроглазый, с насупленными бровями». Таким увидел знаменитого писателя и Рахманинов, разве что тот ещё более состарился.
Когда их пригласили к роялю, Шаляпин исполнил песни Шуберта и Грига. Потом — только что написанную Рахманиновым «Судьбу» с её мрачным лейтмотивом из Пятой симфонии Бетховена («Так судьба стучится в дверь»). Во время аккомпанемента Сергей Васильевич забыл о страхе, чувствовал только сладкую дрожь при звуках шаляпинского голоса. Когда закончили, все, кто сидел в комнате, от восторга готовы были захлопать. Но Толстой молчал, нахмурясь, сунув руки за пояс. Слушатели призатихли, общий подъём несколько увял.
Шаляпина попросили спеть ещё. Он исполнил песню «Старый капрал» Даргомыжского на стихи Беранже. Горестная история старого служаки Толстого растрогала. Он даже вынул из-за пояса руку, чтобы утереть слезу. Потом зазвучала народная песня, «Ноченька». Толстой совсем расчувствовался. Но следом принялся задавать вопросы, которые более походили на проповедь:
— Какая музыка нужнее людям — музыка учёная или народная?
Рахманинов видел, что Толстому его романс не понравился. Он попытался уклониться от разговора. Но Лев Николаевич всё же подошёл к нему. Извинился. Пояснил: не понравилось не то, как играл молодой музыкант, но то, что он играл. Слова Апухтина назвал «отвратительными». Оттолкнул Толстого и главный, «фальшивый» лейтмотив романса. Рахманинов попытался возразить:
— Помилуйте, Лев Николаевич, это не я, это Бетховен.
Но Толстой не мог остановиться:
— Ну и что же, что Бетховен? Всё равно нехорошо.
Подошла взволнованная Софья Андреевна, испуганная запальчивостью мужа:
— Льву Николаевичу вредно волноваться, не спорьте с ним.
Сергей Васильевич мог лишь горько усмехнуться, на спор это мало походило.
Шаляпин унёс с собой фотографию Толстого с автографом: «Фёдору Ивановичу Шаляпину. Лев Толстой. 9 января 1900 г.»[74]. Рахманинов же услышал ещё одно наставление: «Вы не обижайтесь на меня. Я — старик, вы — молодой человек». И тогда не удержался от некоторой дерзости:
— Что ж мне обижаться, если вы и Бетховена не признаёте.
Второй встречи он избегал. Настояла княгиня Ливен. Письмо Гольденвейзеру накануне визита выдаёт смятение композитора, почти панику:
«Милый друг Александр Борисович!
Завтра 1-е февраля в девять часов вечера к. Ливен меня тащит к Л. Н. Толстому. Я упирался, потому что боюсь. Однако ж Ливен об нашем визите сообщила и не ехать нельзя. Будь другом, приезжай тоже к Толстому и, присутствием своим, ободри меня. Всё легче будет. Будь настоящим „толстовцем“ и протяни руку помощи товарищу.
С. Рахманинов
Дай мне знать о твоём решении».
Гольденвейзер, вспомнив предыдущий визит товарища, так и не решился явиться в этот день. Рахманинов был с Шаляпиным. Сначала Сергей Васильевич играл своё. Потом Шаляпин пел. В ответ — всё тот же хмурый, пронзительный взгляд.
Он помнил, как дрожали и подкашивались ноги. Толстой посадил его рядом. Увидев волнение молодого человека, погладил его колени. Но говорить стал неинтересные, избитые фразы, что надо работать, что он и собой недоволен:
— Работайте. Я работаю каждый день.
Рахманинов ещё пытался пояснить:
— Я сомневаюсь. Я боюсь, что у меня таланта мало.
Лев Николаевич словно не слышал главного. Говорил — будто читал нравоучение:
— Это ничего. Об этом не надо думать. Вы полагаете, у меня не бывает сомнений? Просто надо работать. Я работаю с семи до двенадцати, каждый день. Иначе нельзя. Да и не думайте, что мне всегда это приятно, иногда очень не нравится и трудно писать.
Рахманинов знал, о чём Льва Николаевича просила княжна Александра Андреевна: хоть как-то ободрить. Участия в своей судьбе он так и не услышал. Ехал к Толстому как к божеству — и вдруг разом ощутил безразличие. Не к художнику. К учителю жизни.
Пройдёт много лет. В 1930 году в статье «Трудные моменты моей деятельности» у Рахманинова вырвется неожиданное признание о Толстом:
«В самый трудный и критический период моей жизни, когда я думал, что всё потеряно и дальнейшая борьба бесполезна, я познакомился с человеком, который был так добр, что в течение трёх дней беседовал со мной. Он возвратил мне уважение к самому себе, рассеял мои сомнения, вернул мои силу и уверенность, оживил честолюбие. Он побудил меня снова взяться за работу, и я могу сказать, что почти спас мне жизнь…»
Не хотел бросить тень на великое имя? Не желал рассказать всё, как было? И правда ли, что бесед было три? Возможно, краем сознания Рахманинов всё-таки услышал главное: писать только то, что нужно людям. И хотя он поражён неучастием Толстого в собственной судьбе, этому внушению останется благодарен.
Пройдёт ещё две недели. Шаляпин попросит Сергея Васильевича быть крёстным отцом будущего ребёнка. Девочку назовут любимым именем Рахманинова: Ириной. Крестины пройдут 23 февраля. Чуть раньше, 18-го, композитор запишет окончательный вариант романса «Судьба». А 21-го, перед заголовком, выведет с благодарностью: «Фёдору Ивановичу Шаляпину посвящает его искренний почитатель С. Рахманинов».
3. Второе рождение
Как трудно иной раз произведение находит свой путь к воплощению! Толстой, задумав «Казаков», начнёт их писать как стихотворение; он не сразу поймёт, что это повесть. Достоевский будет маяться с каждым большим романом. И героев поначалу не всегда сможет увидеть чётко. Чего только стоит его реплика о Соне Мармеладовой в черновиках: «А может быть — пьяная, с рыбой?» Образ нелепый, если помнить о том, как он воплотился в «Преступлении и наказании».
Художник живёт, страдает, обдумывает, «копит впечатления». И всё это отражается в будущем сочинении. Взгляд привычный и очень «земной». Но рождение произведения можно увидеть иначе. Оно живёт, оно томится в мире возможностей. Оно хочет воплотиться. И наконец — является художнику. А все переживания автора — это лишь способ его почувствовать; через душевные смуты и творческие желания художника сочинение ему «открывается».