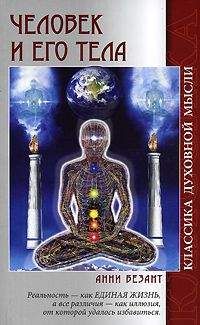Фаина Оржеховская - Воображаемые встречи
Это обо мне, о человеке. Ну, а музыкант? Каким я был музыкантом?
Великим. Посредственным. Замечательным композитором, создавшим жанр симфонической поэмы. Нет, только превосходным исполнителем, начисто лишенным творческого дара. Играл как бог, все падали ниц. Нет, был фигляром, комедиантом с мощной техникой, но без благородства, к тому же искажал чужие симфонии. Одним словом — разноголосица. И лишь в одном, в самом незначительном, все единодушны: как пианист имел громадный успех, просто неслыханный. И следует перечисление моих триумфов в разных городах.
Вообще книги обо мне — это, в основном, описания триумфов.
Кажется, ни об одном человеке, чья деятельность обращала на себя внимание, не высказывали таких резко противоположных мнений.
Чем же это вызвано? На чем основаны многие мои характеристики? Только ли на сплетнях и ошибочных представлениях? Нет ли и моей вины в том, что возникли эти разноречивые толки?
С огорчением вижу: обо мне будут судить не столько по моей музыке, сколько по тем литературным опытам, которые в разное время выходили в свет под моим именем. Да, скорее всего, будет так.
Я писал много статей, писем. Это естественно: я должен был бороться за новую музыку не только своей музыкой, но и словом. Увы! Я всегда был занят и оттого поручал иногда обработку своих мыслей другим людям — тем двум женщинам, которые в разное время были близки мне. Но теперь я сознаю, насколько лучше было бы писать самому. Я в те годы тоже не был чужд преувеличений, но хотя бы искренность могла бы оправдать меня. Теперь же, когда в своих статьях я нахожу фразы вроде «мерцающий светоч религии» или «божественная благодать природы», я ужасаюсь. А мои собственные писания! Я ни в коей мере не отрекаюсь от них. Но теперь я охотно сократил бы их на две трети. А может быть, и не стоит: пусть они остаются как свидетели моей молодости, бурной, со всеми ее заблуждениями!
Таков я был и в своей музыке. Как только перешагнул порог ученичества и бросился в бой, пылкость, чрезмерность, неистовство сделались моими спутниками. И как трудно было играть то, что я писал! Но ведь все новое трудно. Я не думал тогда, как бы облегчить себе задачу: я только впервые поставил ее перед собой.
С годами все постепенно менялось, а теперь?
О как теперь, на склоне лет,
Я жажду простоты!
Ибо она-то и есть высшая мудрость искусства.
Я не хочу больше этих эпитетов французской романтической школы, все этих «таинственных», «зловещих», «огнедышащих» определений. Соответствующие им обозначения в музыке, вроде «аппассионато», «фуриозо», уместны, но в исповеди человека, да еще старого, нет места ораторству. Я любил хорошую ораторскую речь и пытался передать ее в музыке. Но в покое, наедине с собой, я хочу, если можно так выразиться, диатонической [81] ясности. Я хочу вспомнить и почтить тех, кто любил меня и кого я любил. По правде говоря, мне хочется говорить не о себе, а о других, потому что я любил людей и продолжаю любить их.
Мне хочется снова рассказать себе мою жизнь, как я теперь вижу ее, стоя на вершине горы. Оглядеть ее, останавливаясь на отдельных днях и событиях.
«Ни для кого не предназначена»… «Наедине с собой» … Да, это так. Но я привык к тому, что меня всегда кто-нибудь слушает. Пусть это будет воображаемый собеседник, восприимчивый, чистый душой, может быть, даже подросток. Я верю в чуткость юных душ. Они недалеко ушли от детства и оттого сродни художнику. Я постараюсь не очень спешить, дружище, чтобы ты поспел за моим шагом.
И в свете этих мыслей я начинаю свой рассказ.
1
Моя мать всегда боялась, что меня похитят цыгане. Их было много в Доборьянах, а меня нельзя было удержать дома. Мы жили тесно, в одной комнате, а вокруг был такой простор!
Я не помню, чтобы цыгане похитили кого-нибудь из детей, но сам я в ранние годы мечтал уйти вместе с табором. Когда, шумя и звеня, цыгане снимались с места, я некоторое время сопровождал их. Но не решился покинуть родительский дом из жалости к матери.
Более всего меня влекли задумчивые напевы с увеличенной секундой в основе, а затем налетающий, словно шквал, буйный плясовой мотив. То были венгерские песни, а я думал, что они цыганские.
Мой отец был хорошим музыкантом-любителем. Я все просил его выучить меня играть на фортепиано. Он согласился лишь после того, как я отчетливо и верно пропел главную партию концерта, который отец играл, разумеется, без оркестра.
Отец был управляющим в имении князя Эстергази. Мои биографы всегда писали, что у предка этого Эстергази служил Иосиф Гайдн. Вероятно, поэтому они называют моего Эстергази щедрым меценатом, подарившим мне пятьдесят дукатов и вообще поднявшим меня на ноги. Пятьдесят дукатов — это миф. А сообщения о благодеяниях князя по отношению ко мне — просто ложь. Он постоянно отказывал моему отцу в отпуске, необходимом прежде всего для меня: уже пора было уехать учиться как следует, а я был слишком мал, чтобы отпустить меня одного. Князь не пожелал с этим считаться. И моему отцу пришлось оставить службу и на свой риск уехать из усадьбы. Страшно подумать, что было бы с нами, если бы я не оправдал его надежд. Вот уже шестьдесят лет прошло, и самого Эстергази давно нет на свете, но до сих пор я помню его надменное лицо с опущенными углами губ и то чувство зависимости, какое я испытывал в его присутствии.
Как большинство единственных детей в семье, я рос болезненным и впечатлительным. До семнадцати лет хворал — часто и опасно. Зато все остальное время был исключительно здоров и вынослив. Благодаря этому я мог вести свою каторжную концертную жизнь. Мой друг Шопен не выдержал бы и полугода такой жизни.
В школу я никогда не ходил. У нашего деревенского священника научился читать, писать и считать, вот и всё.
— Ну и прекрасно! — сказал мне впоследствии Виктор Гюго, узнав об этой подробности моего детства. — Значит, католики не успели тебя изуродовать.
Мои быстрые музыкальные успехи радовали отца, но и внушали тревогу. Что делать одаренному мальчику в глухих Доборьянах? Отец рискнул повезти меня в ближайшие маленькие города. Помню концерт в Пожоне и даже рецензию, пророчившую мне славу в будущем.
Венгерские богачи обласкали меня, некоторые из них вскладчину выделили маленькую пенсию моему отцу. Она была слишком мала и помогла только на первых порах. Не добившись ни перевода в Вену, ни отпуска у князя, отец решил переехать со мной и моей матерью в столицу Австрии. Там можно было учиться. Отец не хотел для меня славы вундеркинда, напротив, стремился оградить меня от этой участи.
Педагоги, которых отец выбрал для меня в Вене, были самые лучшие; вряд ли уроки у них пришлись бы нам по средствам. Первый из них был Карл Черни, ученик Бетховена. Он встретил нас приветливо. Узнав, что мне только девять лет, он сказал с участием:
— А я думал, еще меньше. Такой худенький, бледный!
И когда я уже играл, качаясь от слабости из стороны в сторону, Черни повторял:
— Такой худенький! Стоит ли его мучить?
Однако после того, как я сыграл импровизацию на заданную тему — отец настоял на этом, — Черни сказал:
— Отличный талант! Сама природа создала его музыкантом!
Хотя, надо сказать, играл я прескверно: грязно, нетвердо, а что касается аппликатуры[82], то я совсем ее не придерживался и играл, как получалось.
Но я был очень старателен. И когда пришел к Черни через несколько месяцев (регулярно заниматься я не мог: уроки были слишком дороги), он сказал:
— Отлично, Цизи![83] Ты понял мои советы.
Черни обучал меня главным образом техническим приемам и в этом был прав. Так называемого «чувства» я обнаруживал даже слишком много, а дисциплины мне не хватало.
Другим моим венским педагогом (по теории музыки) был знаменитый Антонио Сальери. Черни учился у Бетховена, а самого Бетховена обучал Сальери. Я не знал тогда, что ему приписывали, — отец не счел нужным сказать мне об этом. Но вид Сальери меня испугал.
Ему было тогда семьдесят два года; мне теперь столько же. Но я не помню, чтобы кому-нибудь из учеников, даже самым юным, я внушал страх. Что же касается Сальери, то весь его вид: желтушное лицо, орлиный нос, тонкие подвижные губы и особенно тусклые глаза, круглые, как у филина, — показался мне зловещим, и я не скоро привык к нему.
Все же в нем было что-то величавое. Некоторые ученики прозвали его «Граф Калиостро»[84]. Узнав смысл этого прозвища, я нашел его метким: моему детскому воображению Сальери также представлялся колдуном, обладающим губительными чарами.
Однако я не принадлежу к тем, кто безоговорочно верит, будто Сальери отравил Моцарта. Говорят, на смертном одре Сальери проговорил что-то, подтверждающее это подозрение. Но если принять на веру, что люди говорят перед смертью, истерзанные муками и страхом, да еще понукаемые священником, мы пришли бы к неправильным выводам. Я не ручаюсь за то, что буду произносить в предсмертный час, и заранее прошу не придавать значения моему бреду…