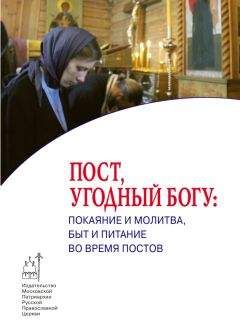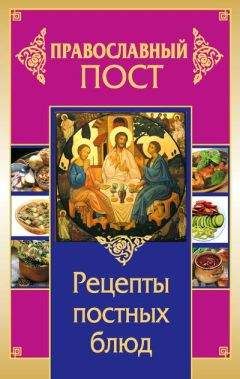Алексей Булыгин - Карузо
Буквально на следующий день по прибытии в Санкт-Петербург начались репетиции. Карузо должен был выступать в четырех операх: «Травиате», «Богеме», «Лючии ди Ламмермур» и «Сельской чести». Ада — в «Бале-маскараде», «Руслане и Людмиле», «Тангейзере» и «Сельской чести» — единственной опере, где Энрико и Ада во время русского сезона должны были появиться вместе.
На репетициях Карузо изменил своему правилу не петь в полный голос. Все-таки он поначалу не очень уверенно себя чувствовал в столь непривычной обстановке и в столь знатном окружении, чтобы рисковать репутацией. К тому же его представляли как «знаменитого» итальянского тенора, что было справедливо лишь отчасти — почти все его коллеги по труппе имели славу куда более громкую и прочную. Кстати, что подбадривало Энрико, так это их дружеское расположение. Все в труппе были очарованы не только голосом Карузо, но и его жизнелюбием, великодушием, полным отсутствием тщеславия и зависти. Анджело Мазини, самый выдающийся лирический тенор тех лет, помогал молодому коллеге чувствовать себя свободнее на сцене. Он никак не комментировал ни голос, ни вокальную технику Карузо, но после очередной репетиции подарил Энрико свою фотографию с очень теплыми словами. Тот немедленно заказал серебряную рамку, дорожил и гордился этим портретом.
Во время путешествия в Санкт-Петербург у Карузо появилось множество друзей. Самым близким из них в тот период стал бас Витторио Аримонди. Его жена, в прошлом известная певица-сопрано, взяла на себя заботу о приобретении теплой одежды для тенора, так как Энрико, имея весьма смутные представления о стране, куда он отправлялся, не захватил с собой теплой одежды.
Совсем по-другому вела себя жена баритона Маттиа Баттистини. Испанка по национальности, она держалась крайне надменно и больше гордилась не мужем, а кузеном — знаменитым Рафаэлем Мерри дель Валем — «серым кардиналом» при Пии X, после его смерти ставшим Великим инквизитором (префектом Священной канцелярии). Супругу певца невероятно раздражали шаржи, которые непрестанно рисовал Энрико, нервировали его непосредственная манера поведения на репетициях и в быту, полное отсутствие «благоговения» перед столь «значительными» особами. Сам же «король баритонов», несмотря на невероятную славу и подчеркнуто аристократические манеры, был с тенором очень приветлив и с улыбкой воспринимал все его шутливые выходки. Например, известно было, что Баттистини не пел в Америке, так как боялся морского плавания. Стараясь сохранить серьезный вид, Карузо по этому поводу высказался так:
— Я знаю, вы не моря боитесь!.. Вы боитесь засевших в ложах «Метрополитен-опера» раскрашенных индейцев с перьями на голове, которые выскочат на сцену и зарубят вас топориками, если вы вдруг сорвете верхнюю ноту!
Баттистини, давясь от хохота, пересказывал эту шутку друзьям — к большому неудовольствию супруги, которая морщилась от негодования, потому как полагала, что ее муж роняет авторитет, общаясь с выходцем из неаполитанских трущоб.
Очень близкие отношения установились у Карузо в Петербурге с Луизой Тетраццини. Энрико проникся к ней симпатией еще во время поездки в Россию. Жизнерадостная хохотушка, «пышка» Тетраццини обладала феноменальным голосом — диапазоном почти в три октавы, беспредельным дыханием, красивейшим «серебряным» тембром. Все это производило магическое впечатление на публику. Глядя на портрет певицы, сложно было представить, как она будет смотреться в ролях хрупких красавиц, вроде Виолетты, Лючии или Мюзетты в «Богеме», но стоило Тетраццини начать петь, как зрители замирали от восторга. Незадолго до поездки в Россию Тетраццини более шести лет с небольшими перерывами пела в Латинской Америке, где ее выступления называли сенсационными. Большим ее поклонником был президент Аргентины Луис Саэнс Пенья. Тетраццини питала слабость к дорогим нарядам, мехам, драгоценностям и возила с собой небольшой домашний зверинец, главной достопримечательностью которого был говорящий попугай, потешавший окружающих способностью пропевать целые фразы из разных опер.
Как и Карузо, Тетраццини была крайне суеверна. На одной из генеральных репетиций Энрико заглянул в гримерную Тетраццини и с удивлением увидел воткнутый в ковер и еще вибрировавший роскошный кинжал, украшенный драгоценными камнями. Певица со смехом призналась другу, что у нее есть примета — она должна трижды бросить кинжал, и если все три раза он воткнется правильно, спектакль пройдет для нее удачно.
Репетиции проходили в очень доброжелательной обстановке. Аримонди, исполнявший Коллена, следил, чтобы мощный звуковой поток Карузо не перекрывал нежный голос Тетраццини, как это было, когда та пела с Таманьо.
Тетраццини позднее вспоминала:
— Я помню Энрико двадцатилетним юношей, с голосом еще до конца не оформленным, с невыровненными регистрами. Помню, что тогда у него еще были трудности даже с такими простыми для тенора нотами, как соль или ля. Они были для него камнем преткновения, и это ужасно его злило. Он даже подумывал начать петь баритоном. В те ранние годы я видела его не слишком часто. Несколько лет спустя, когда мы впервые вместе выступали в Петербурге, я смогла оценить, насколько Карузо прогрессировал и какой у него теперь был изумительный голос! Я как сейчас слышу его пение в «Богеме» в 1899 году, его бархатный тембр, вспоминаю пыл, с которым он щедро демонстрировал свои богатства — сочные, округлые звуки. Это был настоящий открытый неаполитанский голос, но при этом обладавший сладостной нежностью голосов Тосканы. И тогда у меня не было уже никаких сомнений: это был экстраординарный, уникальный тенор. К этому времени все его ноты, от нижних до верхних, были безукоризненными[115].
Дочь тенора Франческо Маркони рассказывала, что во время второго приезда Энрико в Россию, пока Ада не добралась до Петербурга, у Тетраццини и Карузо был короткий, но очень бурный роман. По всей видимости, это похоже на правду — и тенор, и сопрано редко упускали возможность завести во время поездок «интрижку». Тем более Энрико всегда нравились полные женщины, а многочисленные любовные приключения Луизы ни для кого не были секретом и подробно обсуждались в прессе и за кулисами. Кроме двух зимних сезонов в России и выступлений в «Метрополитен-опера» в 1912 году, Карузо и Тетраццини больше никогда не пели на сцене вместе, но оставались близкими друзьями до смерти тенора.
В «Травиате» на сцене театра Консерватории 15 января 1899 года состоялся российский дебют Карузо. Его партнерами были Зигрид Арнольдсон и Маттиа Баттистини. На следующий день обозреватель газеты «Новое время» писал: «Новый тенор г. Карусо, как и его предшественник по амплуа Де Лючиа, является уроженцем Неаполя. В итальянском сценическом словаре такое указание дает уже известное обозначение голоса и его характера. Тенора из Неаполя — по преимуществу лирические, не лишенные, разумеется, силы в местах, требующих пафоса, но вообще склонные к мягкости звука, к преобладанию мецца-воче над настоящею открытою силой звука. Таким представился и г. Карусо, еще очень молодой человек, подчеркивающий, может быть, мягкость звука даже больше, чем следовало бы в партии Альфреда, или же слишком волновавшийся в начале и потому бывший осторожным. Потом во второй половине оперы он распелся и показал свой голос в настоящем, более разностороннем освещении. Вообще же он понравился и имел очень хороший успех»[116].
Мнение, высказанное в «Петербургском листке», показывает, что усилия Анджело Мазини не пропали даром — здесь уже была дана оценка и актерскому воплощению партии Альфреда: «Дебют г. Карусо был вполне успешный. У него чистейший лирический тенор с красивыми высокими звуками, которыми артист щегольнул с особым блеском в финале. Помимо художественного пения, г. Карусо дает осмысленную и прочувствованную драматическую игру. Несомненно, в его лице дирекция итальянской оперы сделала ценное приобретение»[117].
Если успех «классических» опер в Петербурге был абсолютным, то с произведениями современных композиторов все обстояло значительно сложнее. Их музыкальный и образный язык был для многих непонятен. В прессе развернулась бурная полемика по поводу итальянцев и итальянской культуры. Как публика, так и критики демонстрировали широкий диапазон мнений. Апологеты русского музыкального театра крайне ревниво смотрели на иностранных гастролеров. Их, конечно, можно было понять, так как русским операм зачастую с большим трудом приходилось пробиваться на сцену. Они обвиняли итальянских певцов в манерности, увлечении «звучком» в ущерб художественной выразительности, а композиторов — в мелодраматизме и примитивности оперных сюжетов. Многочисленный в России лагерь «вагнерианцев» выносил безапелляционные приговоры итальянской опере как жанру, предсказывая ему скорое списание «в архив». И если уж это касалось таких композиторов, как Россини или Верди, то что уж говорить о Пуччини или веристах! Когда впервые в Россию приехал с гастролями Масканьи, он был очень прохладно встречен публикой и раскритикован в прессе. Его выступления в качестве дирижера проходили в Москве при полупустых залах, а концерты в Санкт-Петербурге пришлось и вовсе отменить — как ехидно заметил один критик, «по причине болезни публики». Пуччини в Россию не приезжал, но его музыка встретила поначалу резкое неприятие. Так, сейчас в это сложно поверить, но была, например, полностью раскритикована «Богема» — за музыкальный материал и излишнюю сентиментальность. Правда, критика не касалась исполнителей. Карузо в роли Рудольфа удостоился самых высоких похвал.