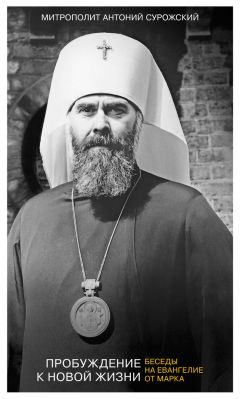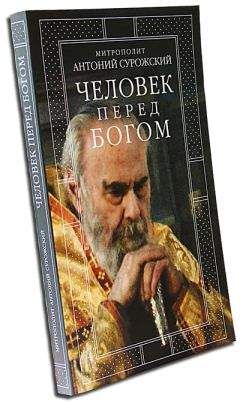Виталий Дмитриевский - Шаляпин
Тем временем после трех дебютов Шаляпина окончательно зачислили в труппу Мариинского театра. Ему поручили партии Свата в «Русалке» А. С. Даргомыжского, Судьи в «Вертере» Ж. Массне, Андрея Дубровского в «Дубровском» Э. Ф. Направника. Имя Шаляпина теперь часто встречается в театральной хронике, публика и пресса относятся к его выступлениям с пристальным вниманием. О Шаляпине — Галицком в «Князе Игоре» «Петербургская газета» 27 апреля 1896 года писала: «Что же касается г. Шаляпина, то текст он понял верно… Но голос его как-то слабо (вернее, закрыто) звучал, и ему приходилось форсировать голос для достижения известных эффектов. Ему необходимо еще учиться петь».
Газета «Новое время» также отметила сценическое дарование Шаляпина, которое «при работе может хорошо развиться».
После выступления Шаляпина в роли графа Робинзона в опере Д. Чимарозы «Тайный брак» (премьера состоялась на сцене Михайловского театра) та же газета «Новое время» писала: «…г. Шаляпин в роли жениха-графа не отставал от других, во внешнем виде этого фата не хватало типичности и оригинальности; зато вокальную часть своей партии артист провел с полным вниманием».
Дирекция театра решила: неопытного, пусть и способного артиста следует занимать в маленьких ролях.
«Я благодарю Бога за эти первые неуспехи, — признался Шаляпин через много лет в своей книге „Маска и душа“. — Они вышибли из меня самоуверенность, которую во мне усердно поддерживали поклонники. Урок, который я извлек из этого неуспеха, практически сводился к тому, что я окончательно понял недостаточность механической выучки той или другой роли. Как пуганая ворона боится куста, так и я стал бояться в моей работе беззаботной торопливости и легкомысленной поспешности… Я понял навсегда, что для того, чтобы роль уродилась здоровой, надо долго-долго проносить ее под сердцем (если не в самом сердце) — до тех пор, пока она не заживет полной жизнью».
Лето 1895 года Шаляпин провел под Петербургом, в Павловске, вместе с новым своим приятелем-ровесником Евгением Вольф-Израэлем, виолончелистом Мариинского театра. Певец разучивал новые партии, выступал в музыкальных вечерах в зале Павловского вокзала, в свободное время гулял с друзьями по парку, катался на велосипеде, ловил рыбу в речке Славянке.
Вернувшись осенью в Петербург, он снова начал заниматься с Дальским. Их общий приятель, молодой артист Александрийского театра Николай Ходотов, вспоминал:
«— Чуют прав-в-вду!.. — горланит Шаляпин.
— Болван! Дубина! — кричит Мамонт. — Чего орешь! Все вы, оперные басы, дубы порядочные. „Чу-ют!“ Пойми… чуют! Разве ревом можно чуять?
— Ну и как, Мамонт Викторович? — виновато спрашивает тот.
— Чу-ют тихо. Чуют, — грозя пальцем, декламирует он. — Понимаешь? Чу-ю-ю-т! — напевая своим хриплым, но необычайно приятным голосом, показывает он это… — Чу-у-ют!.. А потом разверни на „правде“, „пра-авду“ всей ширью… вот это я понимаю, а то одна чушь — только сплошной вой…
— Я здесь… — громко и зычно докладывает Шаляпин.
— Кто это здесь? — презрительно перебивает Дальский.
— Мефистофель!..
— А ты знаешь, кто такой Мефистофель?
— Ну как же… — озадаченно бормочет Шаляпин. — Черт!..
— Сам ты полосатый черт. Стихия!..
Дальше идет лекция о скульптуре в опере, о лепке фигуры на музыкальных паузах, на медленных темпах речи… И Шаляпин слушал…
Много взял Шаляпин от Дальского. Даже единственный шаляпинский тембр, увлекший за собой массу других певцов-басов подражателей, получил свою „обработку“ в „школе“ Дальского. Самая артистичность, драматическая музыкальность, красочность фраз Мамонта вошли в плоть и кровь гениальной восприимчивой натуры Федора Шаляпина».
Шаляпин безгранично верил Дальскому, следовал его советам в трактовке ролей, в осмыслении характеров, в отборе интонаций, красок, жестов, пластики. Когда спустя два года великая актриса Малого театра Мария Николаевна Ермолова увидела Шаляпина в роли Ивана Грозного в «Псковитянке», она была поражена прежде всего исключительным актерским мастерством певца.
— Откуда это всё у вас? — спросила она Шаляпина.
— Из «Пале»…
— Из какого «Пале»? — удивленно переспросила Ермолова.
— Из «Пале-Рояля»… Я там «дальчизму» учился.
А в театре Шаляпин мечтал сыграть Мельника в «Русалке». Обещания дирекции неопределенны, но тем не менее он начал работать над ролью с Мамонтом Дальским. «Почему пение в опере не выражает так много жизненных страстей, как слово в театре драматическом? — размышлял артист. — Что, если вокальное искусство сочетать с мастерством драматического актера?» Дальский и здесь оказался умным советчиком.
— У вас, оперных артистов, всегда так. Как только роль требует проявления какого-нибудь характера, она начинает вам не подходить. Думаешь, тебе не подходит роль Мельника? А я полагаю, что ты не понимаешь как следует роли. Прочти-ка.
— Как прочти? Прочесть «Русалку» Пушкина?
— Нет, прочти текст роли, как ее у вас поют. Вот хотя бы эту первую арию твою, на которую ты жалуешься.
Федор прочел — внятно, с соблюдением грамматических и логических пауз. Дальский сказал:
— Интонация твоего персонажа фальшивая — вот в чем секрет. Наставления и укоры, которые Мельник делает своей дочери, ты говоришь тоном мелкого лавочника, а Мельник — степенный мужик, собственник мельницы и угодьев.
«Как иголкой, насквозь прокололо меня замечание Дальского, — вспоминал Шаляпин. — Я сразу понял всю фальшь моей интонации, покраснел от стыда, но в то же время обрадовался тому, что Дальский сказал слово, созвучное моему смутному настроению. Интонация, окраска слова — вот оно что!.. В правильности интонации, в окраске слова и фразы — вся сила пения».
Работа в театре тем временем продолжалась. Подходивший к завершению сезон так и не приблизил Шаляпина к осуществлению его мечты. А тут еще Дальский, читая недельный репертуар Мариинки, укорял Федора:
— Нужно быть таким артистом, имя которого стояло бы в репертуаре по крайней мере дважды в неделю. А если артиста в репертуаре нет, значит, он не нужен театру. Вот смотри — Александринский театр: понедельник — «Гамлет», играет Дальский. Среда — «Женитьба Белугина», играет Дальский. Пятница — «Без вины виноватые», снова Дальский. А вот Мариинский театр: «Русалка», поет Корякин, а не Шаляпин. «Рогнеда», поет Чернов, а не Шаляпин.
— Что же делать? — взволнованно спрашивал Федор. — Не дают мне играть!
— Не дают — уйди, не служи!
— Легко сказать — уйди…
Удрученность Федора замечали и его коллеги. Михаил Михайлович Корякин, с которым он не раз пел дуэтом, хотел вселить в молодого певца бодрость, веру в талант и поэтому в последний день сезона — 30 апреля 1896 года — сказался внезапно заболевшим. Дирекция пошла на риск и выпустила на сцену Мельника — Шаляпина. Спектакль неожиданно оказался заметным событием в жизни певца. Успех не вызывал сомнений.
Так славно завершился для Федора второй сезон в Мариинском театре! «Этот захудалый, с третьестепенными силами, обреченный дирекцией на жертву последний спектакль взвинтил публику до того, что она превратила его в праздничный для меня бенефис. Не было конца аплодисментам и вызовам», — вспоминал Шаляпин.
Спектакль дорог не только Шаляпину. Известный критик Эдуард Старк спустя 20 лет, в 1915 году, вспоминал: «Здесь подлинная драма, и притом драма русская, здесь сочетание двух гениев, Пушкина и Даргомыжского, здесь образец музыкальной драмы в высоком значении этого слова, и какое полное проникновение в музыку и текст явил в нем Шаляпин! Как он сумел в единый миг раскрыть все чары, таящиеся в этом слиянии слова с музыкой, овладеть всеми тонкостями речитатива, доведенного Даргомыжским в третьем акте до высокой степени совершенства, влить в слова столько жуткого трагизма, сообщить всем жестам такую выразительность, овладеть замыслом настолько, чтобы подчинить себе средства этого внешнего воплощения, все это было непостижимо, казалось почти чудом, да оно и было, несомненно, чудом внезапного пробуждения великого таланта от долгого сна, в который он был погружен. Это была вспышка гения, это было блестящее начало того искусства, которое сделало из Шаляпина кумира толпы».
И все же Шаляпин чувствовал себя в труппе неуютно. Некоторые солисты и чиновники театральной конторы не скрывали высокомерия к «пришельцу», раздражения его «провинциальностью», «неотесанностью». «Жизнь в Питере, — писал Шаляпин в Тифлис своему другу В. Д. Корганову в январе 1896 года, — идет своим чередом, по-столичному: шум, гам, руготня и проч. Поругивают и меня, и здорово поругивают, но я не унываю и летом во что бы то ни стало хочу за границу, в Италию и Францию в особенности…»