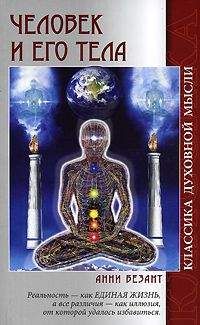Фаина Оржеховская - Воображаемые встречи
Мне кажется, из всех искусств одна музыка способна выразить истинную, полную радость. Она располагает наиболее сильными средствами, чтобы передать восторг, счастливый душевный подъем. Мы знаем много великолепных гимнов, равных которым не найдется ни в поэзии, ни в живописи. Финал симфонии, созданной Бетховеном в тяжелейшую пору его жизни убеждает нас, как беспредельны силы музыки. Даже из страданий она создает радость.
Что же сказать о композиторе, который счастлив?
… Или — вообразил себя счастливым?
… Мы возле рыбацкой лачуги
Сидели вечерней порой.
Уже темнело море,
Вставал туман седой.
Теперь я уже знаю, что определило название этой главы: воспоминание, которому более двадцати лет.
В шестидесятых годах мне было предложено написать для музыкального журнала очерк о песнях Шумана. Недавно я перечитывал сохранившийся черновик; он сильно отличается от окончательного, более «обтесанного» варианта. Я был тогда во власти колдовского стихотворения Гейне, первые строки которого я только что приводил. Оно не выходило у меня из головы, пока я набрасывал свою заметку о песнях Шумана.
«До тридцати лет, — писал я, — Шуман сочинял только для фортепиано, никогда ни в чем не повторяясь, и его друзья думали, что он, подобно Шопену, останется певцом одного инструмента. Он долго дышал этим воздухом. Но вскоре мир фортепиано стал тесен для него, и наступила очередь песен.
„Я хотел бы допеться до смерти, как соловей…“» Эти слова, напугавшие — его молодую жену, имели глубокий смысл. Жизнь соловья — это песня, такова и жизнь художника. Может быть, потому она и коротка.
В год своей женитьбы Шуман написал сто тридцать восемь песен для голоса и фортепиано. Он и в дальнейшем писал их, но они чередовались с другими сочинениями, главным образом крупными. Но в том счастливом сороковом году, когда началась «пора песен», он не хотел знать ничего другого. В человеческом голосе для него открылся источник вдохновения, как прежде — в одном лишь фортепиано.
«Когда я думаю о песнях Шумана, — писал я далее, — мне всегда вспоминается одна из них, написанная на слова его любимого Гейне. „На взморье вечером“ — так Шуман назвал ее. Люди сидят у рыбачьей хижины, смотрят, как зажегся и мерцает маяк вдали, как на море показывается парус, и толкуют между собой о разных странах и разных людях.
Над Гангом звон и щебет.
Гигантский лес растет.
Пред лотосом клонит колени
Прекрасный и гордый народ…
И мне представляется, что песни Шумана — это дивные и диковинные рассказы обо всем человеческом, достойном внимания и сочувствия. О природе, всегда живой и мудрой, всегда отзывчивой, о крылатой весенней ночи — вестнице счастья, о листьях орешины, которые шепчутся в саду…
Он рассказывает о любви поэта и о любви женщины[41]. О бесхитростном и сильном чувстве молодого крестьянина Петера, о любви лесной феи к запоздалому путнику и даже о любви безобразного совёнка к соловью [42].
Любовь безнадежная, радостная, тревожная. Внешне бесстрастная, когда говоришь: „Я не сержусь“ или „Я это знал“[43], а на самом деле мучительная и горькая.
Он умеет проникнуться чужим чувством. Вот „Любовь и жизнь женщины“. Эти стихи Шамиссо без музыки, да простят мне почитатели знаменитого поэта, — плоски, напыщенны. Я знаю: о любви говорить трудно; эти слова так часто повторяются, что им перестаешь верить. Но Шуман своей музыкой преобразил стихи Шамиссо. Любовь девушки, материнская радость, горе вдовы, мужество и достоинство зрелой женщины… Об этом рассказано как будто впервые.
Кто ввел его в этот мир? Не та ли единственная женщина, которой посвящены все его песни? „Ты мое сердце и душа…“ Франц Лист, услыхав это „Посвящение“, выпросил его у Шумана, чтобы потом создать свой величественный „фортепианный гимн“[44].
Я писал и о том, что в песнях Шумана мы узнаём смелых и мужественных людей. „В горах мое сердце, не в этой стране“, — поет шотландский горец, соотечественник Роберта Бернса, равный ему по силе духа. Мы узнаём смелую горянку, принявшую завет борьбы[45], и Двух Гренадеров, верных своему полководцу. Простые люди, они не подозревали в нем тирана и верили, что Наполеон — друг свободы. Недаром эта песня завершается мелодией „Марсельезы“. Наполеон и „Марсельеза“! Какая трагическая ошибка! Но и сам Бетховен однажды допустил ее[46].
„Говорят, Шуман оставил фортепиано ради голоса, но это не совсем так. Ибо фортепиано в шумановских песнях не только сопровождает и дополняет пение. Фортепианные партии в песнях Шумана — это гениальные пьесы, и я уверен, что пианисты, известные всему миру, сочтут для себя честью „аккомпанировать“ песням Шумана“».
Тут я остановился на цикле «Любовь поэта» и сравнил первую — солнечную и радостную песню — с последней, самой мрачной. «Первая называется „В прекраснейшем месяце мае“; в ней описана счастливая встреча. А заключительная начинается такими словами:
Для старых мрачных песен,
Дурных, тревожных снов,
О, если бы громадный
Для них был гроб готов.
После этой песни реквиема[47] начинается большое фортепианное заключение на целую страницу. Мы ожидаем мрачных аккордов, в до диез миноре (ибо такова тональность песни), напоминающих стук молотка о гробовую крышку. Но вместо этого в ярчайшем мажоре мы узнаём мелодию первой счастливой песни. Все сияет и радуется, как „в прекраснейшем месяце мае“. В этом неожиданном возвращении целая философия, чисто шумановское отношение к жизни, к людям. Способность сильно чувствовать — ведь это само по себе счастье, и даже неразделенная любовь возвышает и радует».
Не об этом ли он говорил мне еще в юности, когда мы спорили о дружбе, о Шопене?
Так я писал о песнях Шумана. Теперь я прибавил бы другое. Я сказал бы об их национальной основе. Воспевая Ганг и цветок лотоса, испанского гидальго и шотландского партизана, французских гренадеров и датского солдата, он остается немецким музыкантом. Это не отделяет его от остального мира, напротив. Мы знаем, как далеко проникает искусство гениев. Музыка Шопена — это не только Польша. Музыка Листа — это больше, чем Венгрия. Они принадлежат всему миру.
Таков и Шуман.
Глава шестнадцатая. Тяжелые годы
Человека узнаешь в том, как он встречает свое самое тяжкое испытание. Мы помним героическую стойкость Бетховена. Мужество Шумана было не меньшим.
Вначале я не замечал ничего тревожного в его поведении, разве только преувеличенный страх перед уходящим временем: никто ничего не успевает. Огромные силы заложены в человеке от природы, но результаты усилий малы, будь он хоть долговечен, как Тициан, и трудолюбив, как Бах.
И потому надо торопиться, надо спешить.
Эти мысли заставляли его вставать среди ночи и приниматься за работу, которая не ладилась: он слишком торопился и думал не о самой работе, а о своем страхе.
К счастью, это случалось редко, и только с середины сороковых годов появились другие, тревожные приметы.
Его осаждали новые замыслы, но это уже носило напряженный, насильственный характер.
Шумный город утомлял его. И преподавание в консерватории, которое он взвалил на себя, было ему в тягость. Консерватория открылась в сорок пятом году. Мендельсон и Шуман много хлопотали об этом. Роберт изо всех сил пытался исполнить свой долг перед молодежью, но его бодрости ненадолго хватило. Он раздражался на уроках, становился рассеянным. Утомляли его и гости. Кларе не раз приходилось связывать оборвавшуюся нить разговора, когда Шуман, только что высказавший меткую мысль и горячо развивавший ее, внезапно останавливался и спрашивал:
«Так о чем же я только что говорил?..»
— Бетховен еще в молодости оставил завещание, — сказал мне однажды Роберт. — Не пора ли подумать об этом и мне?
— Насколько мне известно, Бетховен уничтожил завещание и прожил после того много лет.
Это успокоило Шумана, но ненадолго.
Он теперь часто вспоминал о Бетховене, должно быть черпая в этом силы.
Но испытание глухого композитора было еще не самым страшным. Можно, оказывается, бороться и с глухотой — вспоминать, слышать воображаемые звуки. Но что может быть труднее, чем борьба с собственным угасающим разумом?
Десять лет продолжалась эта неустанная, нечеловеческая и далеко не бесплодная борьба. Разобщенность с людьми, угнетавшая Бетховена, — что она по сравнению с беспросветным одиночеством человека, окруженного родными и друзьями, но далекого и чуждого им? Он уходил от них все дальше и дальше.
А между тем накапливаемый с годами опыт приносил свои плоды. Мастерство росло. В светлые промежутки к Шуману возвращалась прежняя работоспособность. Оратория, симфония, даже опера занимали его тогда, и он писал их. Но из всех попыток только музыку к «Манфреду» Байрона, вернее, только увертюру он считал законченной; ею можно было гордиться. В остальном, придирчивый, беспощадный к себе, он сознавал свое несовершенство. «Паломничество Розы» растянуто. Опера «Геновева», прекрасная по музыке (он знал это), не годится для сцены, и нет сил перекраивать либретто. Музыка к «Фаусту» могла бы удовлетворить его, если бы не отдельные расплывчатые, скучные страницы. А те, в которых он уверен, теряются среди других, напряженных, трудных для восприятия.