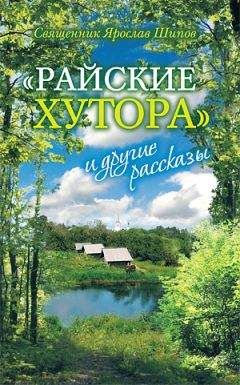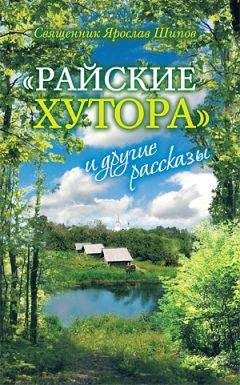Александра Бушен - Молодой Верди. Рождение оперы
Ждали молитвы перед дароприношением. Ждали с нетерпением и понятным волнением. Потому, что в это время органист, не связанный общим ходом богослужения и как бы предоставленный самому себе, имел возможность исполнить произведение, довольно значительное по длительности и такое, где он мог показать все свое искусство виртуоза во славу господа бога.
Конечно, так только говорилось — во славу господа бога. За последнее время органисты в больших церквах не очень-то заботились о славе божией, а больше о своей собственной. Они чувствовали себя как солисты театра Ла Скала, когда они выступают перед публикой, и импровизации этих маэстро-органистов носили чисто светский и даже суетный характер. Впрочем, импровизировали не все.
Иные — конечно, по мере сил и возможностей, в зависимости от таланта и опыта — исполняли произведения великих мастеров-органистов прошедших столетий. Так, можно было иногда услышать сочинения Фрескобальди, Меруло, Грасси, а иногда — и это бывало чаще — музыку композиторов не столь блистательных. И чаще всего исполнялись сочинения маэстро, слава которых не выходила за пределы определенного городка или местности. И в Буссето многие были почему-то уверены, что Верди для первого своего выступления в родном городе выберет одно из произведений Фердинандо Провези. И не потому, что молодой маэстро не мог или не любил импровизировать, нет, нет, совсем не потому, — ведь за ним прочно утвердилась слава искусного и вдохновенного импровизатора, но некоторые любители музыки утверждали, что он непременно захочет почтить таким образом память покойного учителя. И даже по этому поводу разгорелись было страстные споры, и если бы дело происходило не в церкви, да еще во время богослужения, поднялись бы, вероятно, шум и крики. Но храм божий — не базарная площадь и не кабачок. Самые горячие головы и отъявленные спорщики помнили об этом.
Перед освящением даров стало совсем тихо. Было слышно, как работают раздуваемые в органе мехи. Воздух скапливался в деревянном ящике под трубами. Он вталкивался туда с легким шипением и еле заметным свистом. Точно гигантские легкие набирали воздух.
Маэстро сидел на высокой скамье, гладко отполированной и потемневшей от времени. Перед ним возвышалась зубчатая стена больших и малых труб. Оловянные, они блестели, как чистое серебро. Это было очень красиво. Деревянный корпус органа был почти сплошь резной. По широкой раме бежали гирлянды из музыкальных инструментов — скрипки, флейты и трубы вперемежку с листьями лавра и лентами. Справа и слева возвышались большие фигуры музицирующих ангелов. Они застыли в прямых и твердых складках деревянных одеяний. В руках у них были лютни, кифары и лиры.
Маэстро сидел, опустив голову. Клавиши на обеих клавиатурах казались чуть-чуть пожелтевшими. Вверху, под самыми сводами луч солнца, золотой и острый, прорезал воздух, как летящее копье.
Маэстро приготовил нужные ему регистры. Потом опустил руки на клавиши и привел в движение рычаги педали. Воздух, зажатый в пустом пространстве под трубами, через открытые клапаны устремился вверх. Он превращался в звуки — отчетливые, точные, выразительно-окрашенные. Открыв регистры флейт, маэстро возвестил тему. Торжественно. Строго. В церкви поняли, что он будет импровизировать. И сразу же узнали тему. Это была очень популярная духовная песнь. Ее знали и в городе, и в окрестностях, в больших, близко расположенных деревнях, и в глухих селениях, где говорили только на диалекте. Слова песни были очень простыми, и сложена она была бесхитростно.
В этой песне говорилось о явлении Мессии волхвам. Но говорилось в ней и о народах, истомившихся в неволе, говорилось о людях, согбенных под ярмом жестокости и беззакония. Об этом тоже говорилось в песне: о несправедливости и страданиях. И дальше говорилось о злых и сильных, которые ополчились на беззащитных и поработили их, и отняли у них землю, хижины, пастбища и скот, и надели на бесправных тяжелые цепи, и заставили их трудиться от зари до зари без отдыха, как рабов. И был припев:
И льются наши слезы,
И льются день и ночь.
Такое было начало.
Маэстро импровизировал. Над глубоким, мягко переступающим басом он оставил только самые нежные и высокие голоса: маленькую тонкую флейту пикколо и регистр шестидюймовых трубок — дрожащий голос человеческий, и тот, что звучит октавой выше и называется голосом ангельским.
Маэстро начал andante — медленное скорбное вступление. Его можно было назвать прелюдией, но прелюдией очень свободной и какой-то совсем особенной по выразительности. Важный, торжественный орган заговорил необычным языком, взволнованным языком страстей человеческих. Казалось, что человек томится, скорбит и робко повествует о своем горе, и плачет, и жалуется, и перечисляет напасти и обиды. И этот плачущий, мятущийся в горе человек — не один. Вот присоединился к нему второй, и тоже жалуется, и тоже плачет, и горюет, и говорит о страданиях и муках. К этим двум присоединяются и третий и четвертый — и вот уже все вместе тихо изливают свое горе и плачут, и жалуются.
Невозможно передать, как под умелыми руками маэстро легко и искусно соединялись и разобщались поющие голоса. Это надо было слышать. Они вели между собой беседу, задушевную, трогающую сердце беседу. Можно сказать, что они разговаривали, как разговаривают иногда между собой люди. Иногда. В сумерках. Когда угасает день, и печаль делается острой и невыносимой, и необходимо ее выговорить — как будто произнесенная и рассказанная, она отдаляется от сердца и ранит его не так больно.
Диалог плавно льющихся и переплетающихся между собой голосов органа был жалобным и нежным. Он вызывал у слушателей невольные вздохи. А у многих — и даже у мужчин — лица были мокры от слез. Вот как маэстро сумел передать музыкой смысл слов бесхитростной песни! О, он был вдохновенным музыкантом! Музыкой он преображал слова, раскрывал в них новый смысл, глубокий и сокровенный. И теперь духовная песнь уже не казалась простой и бесхитростной — нет, нет! Теперь ее чувствовали иначе.
Вступили в действие регистры труб с язычками — регистры мощные и громогласные, регистры звонкие и даже чуть резковатые, голоса трубные и рожковые. Избыток горя породил жажду избавления. Музыка бушевала ураганом. Маэстро соединил регистры самых больших и толстых труб с регистрами призвуков и регистрами труб с язычками. Весь орган пришел в движение. Он звучал гигантским хором, как целый народ, вопиющий о возмездии. И внезапно после страстной вспышки человеческого горя — тишина. И опять стало слышно, как мехи вдувают воздух в деревянный ящик под трубами и он вталкивается туда с легким шипением и еле заметным свистом.
А затем возник и поплыл под своды проникновенно-величавый хорал. И регистры инструментов, носящих те же названия, что и в симфоническом оркестре — виолончели, флейты, гобои и виолы, — звучали возвышенно и преображенно, и ангельский голос, тонкий и бесплотный, нес благую весть. Пришло избавление и новый закон. Так пелось в песне.
Голоса органа сплетались в хоровод голосов поющих и ликующих, в торжественные, полные глубокого философского смысла собеседования. И каждый голос, поющий, ликующий и беседующий, вступал в действие самостоятельно и своевременно, и каждый голос, поющий, ликующий и беседующий, поражал смелостью интонаций и выпуклостью рисунка. Рождалась полифония — богатая, многообразная и удивительная. Маэстро заканчивал импровизацию могучей двойной фугой.
Слушатели были захвачены. Они чувствовали необыкновенный подъем и возбуждение. Выходили из церкви взволнованные и шумные и, выйдя на улицу, давали волю накипевшим чувствам — зааплодировали продолжительно и неистово и кричали до хрипоты: «Evviva! Evviva Verdi!»
Расходиться по домам не торопились. По площади было не пройти. Столько народа не съезжалось в город даже в самый популярный базарный день. Точно ярмарка открылась возле церкви братьев францисканцев. Просто не сосчитать, сколько тут стояло лошадей, повозок, тележек, мулов. И даже кто-то приехал на волах. Приехали из Сораньи и Фиоренцуолы, из Виллановы д’Арда и Кастелаццо, из Сканделары и Казавеккио, приехали из Корноккио, Казануовы, Пиантадоро и из дальних хуторов Провинциале, Перголо, Страдацца и еще из многих деревень, хуторов и местечек. Все приехавшие только и говорили, что о своем желании послушать маэстро. И откуда только народ узнал, что Верди выступает сегодня в церкви Санта Мария дельи Анджели? Каким образом удалось оповестить об этом событии — которое по существу и не было событием — такое огромное количество людей? Понять это было невозможно. Оставалось только удивляться. А приехавшие хитро посмеивались, на все вопросы отвечали уклончиво и чаще всего говорили как-то загадочно, что слухом, мол, земля полнится.