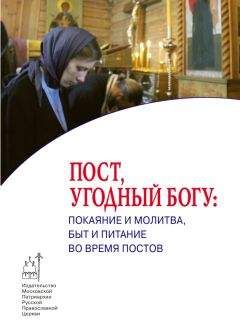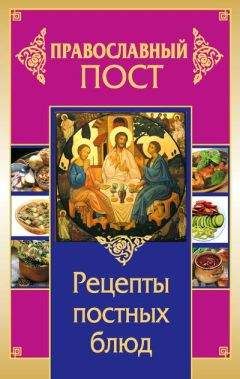Алексей Булыгин - Карузо
С самыми сердечными приветствиями, преданный Вам, Энрико Карузо»[429].
Письмо было написано спустя два дня после визита Бастианелли и на следующий день после ужасной лихорадки, продолжавшейся всю ночь.
Дороти решила больше не медлить. Она попросила Джованни забронировать на следующую ночь номер в гостинице «Везувий» в Неаполе и заказать частный поезд, чтобы срочно доставить Энрико в Рим. Об этих роковых днях вспоминает Фофо: «Начались лихорадочные приготовления к поездке. Через полдня мы уже были готовы отбыть.
В этой ужасной ситуации отец оставался спокойным. Его главной заботой было вести себя так, чтобы в прессу могла попасть о нем информация как о человеке, находящемся на пути к выздоровлению.
Фактически — и я сейчас не понимаю, почему это ему позволили — он настоял на том, чтобы отплыть на пароме утром следующего дня, хотя мы, возможно, смогли бы намного быстрее доставить его в Неаполь в санитарном катере и тут же посадить на поезд, идущий в Рим.
Он поднялся ранним утром, все еще с тяжелой лихорадкой, и оделся в спортивный костюм. В течение всего плавания, которое заняло около двух часов, он сидел на деревянной скамье прогулочной палубы парома. В хорошем расположении духа он обменивался шутками с многочисленными туристами, которые окружили его плотным кольцом. Казалось, здесь были все нации.
Никто из них даже не мог представить всю опасность положения отца. Ни мой угрюмый вид, ни раздраженное лицо Доры, ни ворчание дяди Джованни не могли отогнать этих назойливых поклонников. Отец улыбался, хотя говорить ему было все труднее. Меня же больше всего беспокоил цвет его кожи, которая на глазах становилась все более и более серой.
Наконец мы прибыли в Неаполь и немедленно направились в гостиницу „Везувий“. Мы должны были остановиться там, потому что отец устал, и нужно было дать ему отдохнуть перед поездкой в Рим. Целый день приходили доктора и родственники…»[430]
События следующего дня восстанавливает Дороти: «Энрико лег спать с температурой 40 градусов, но утром я нашла его сидящим в постели. Он попросил привести Глорию, немного поиграл с нею, поцеловал и отпустил. Это было 1 августа, когда в Неаполе очень мало людей.
— Я опущу шторы, и ты, может быть, уснешь, — сказала я, как вдруг Энрико испуганно посмотрел на меня и вскрикнул.
Марио сразу же побежал искать врача. Все было, как в рождественские дни. Энрико вскрикивал при каждом вздохе. На этот раз эфира не оказалось и я могла помочь ему только тем, что вытирала его вспотевшее измученное лицо.
Вернулся Марио и сказал, что все посыльные отправлены за врачами, но большинство медиков уехали на лето за город. Испуганный хозяин отеля пришел сказать, что он велел известить все больницы и что кто-нибудь из врачей обязательно придет. Но… никто не приходил.
Спустя час Энрико стонал, как измученный зверь — его голос потерял человеческое звучание, а стоны превратились в протяжный вой.
Прошло два часа, но врачей все не было. Я умоляла Джованни привести зубного врача, ветеринара или медсестру — любого, кто мог бы ввести морфий. Невероятно, но в таком большом городе, как Неаполь, где все преклонялись перед Карузо, ни одна душа не могла ему помочь в столь отчаянном положении. Энрико мучился уже четыре часа, когда пришел первый врач… и тот без морфия!
Когда он вернулся с морфием, его руки так дрожали, что он не мог сделать укол. Мне пришлось взять у него шприц. Через десять минут Энрико перестал стонать и погрузился в забытье. После этого, один за другим, приехали еще шесть врачей. Они осмотрели Энрико и собрались в салоне, чтобы обсудить положение. Через час они позвали меня и сказали, что собираются удалить почку в тот же вечер, но боятся давать наркоз. Они сказали, что если делать операцию, он будет мучиться от болей в течение двух недель, но в конце этого срока на спасение появится один шанс из тысячи, а если операции не делать, он не доживет до утра.
Я должна была принять решение и обратилась к брату Энрико:
— Джованни, что делать?
Джованни держал в руках платок и плакал. Он не сказал ничего, а опустил голову и зарыдал.
— Его спасли в Америке. Почему вы не можете этого сделать?
Врачи покачали головами и ждали ответа. В конце концов, я сказала:
— Делайте то, что вы считаете необходимым. Но прежде чем удалить почку, сделайте разрез под рубцом. Вы найдете там абсцесс размером с грецкий орех. Вскройте его и вставьте дренаж, через сутки он будет вне опасности. Я беру ответственность на себя. Если вы не обнаружите абсцесса, удаляйте почку.
Они обсуждали мое предложение еще час, а потом сказали, что оперировать вообще бесполезно. Я умоляла их сделать операцию, но они не слушали меня. Они отказались сделать даже переливание крови. Согласились только с тем, что нужно дать кислород.
Каждой своей клеткой я трепетала за его жизнь, как это было в ту долгую ночь в Нью-Йорке. Я стояла около него на коленях…»[431]
Вечером того же дня Энрико пришел в сознание. Теперь он уже не мог не понимать, что находится между жизнью и смертью. Родольфо Карузо рассказывает: «Тем временем лихорадка отца продолжала усиливаться. У папы с дядей Джованни состоялся конфиденциальный разговор, и когда он закончился, дядя попросил меня помочь найти кислородную подушку. Услышав это, я почувствовал, как у меня защемило сердце, но мой оптимизм не позволял мне сдаваться. Я не паниковал и не воспринимал ситуацию как неизбежную катастрофу. Пока мы ехали, Джованни рассказал мне, о чем отец говорил ему накануне в Сорренто:
— Джованни, завтра я еду в Рим. Мне будут делать операцию, но я не знаю, что из этого всего выйдет. Но прежде чем я уеду, я положу в Неаполитанском банке по миллиону лир для каждого из вас: для тебя, Родольфо, Мимми, так чтобы вы имели поддержку, если операция закончится неудачно. У Дороти уже есть сейф в банке, где она хранит драгоценности, а вы ничего не имеете. Я думаю, мои наследники не будут возражать. Но это я делаю, дабы не сглазить ситуацию.
Нужно помнить при этом, что отец был простодушно-суеверен. Мой дядя попробовал возразить, но мнение отца было окончательным.
Когда мы вернулись с кислородной подушкой, в номере царил неописуемый беспорядок. Отца продолжало лихорадить, но он сохранял феноменальную ясность рассудка и ни на минуту не терял контроля над мыслями. Он так обильно потел, что его приходилось перемещать с одной кровати на другую каждые полчаса, чтобы заменить совершенно мокрые простыни на сухие. Его мучила жажда, и он постоянно пил минеральную воду.
— Я чувствую себя совсем больным. На этот раз мне будет трудно ехать, — сказал он.
Наступил вечер, но я не хотел уходить из комнаты отца. Марио и я провели ночь, перенося отца с кровати на кровать. В промежутках мы по очереди немного отдыхали. Дороти не оставляли друзья, всячески пытаясь ее утешить.
Около пяти утра я почувствовал странный аромат — какой-то запах распада или разложения. Амедео Канесса, старый друг семьи, осторожно прикоснулся ко мне и попросил выйти из комнаты, куда в этот момент входил монсеньор Тонелла. Он был большим другом отца и, как я узнал впоследствии, причастил умирающего и отпустил ему грехи.
Пока у постели отца был священник, я стоял в соседней комнате в каком-то оцепенении — как от полного истощения, так и от невыносимых терзаний. До самого последнего момента я надеялся, что Бог сотворит чудо. Мне казалось просто невозможным, что мой отец — такой хороший человек, столь дорогой для меня, такой скромный, спонтанно щедрый и благородный, — мог быть в смертельной опасности…
В момент, когда я был уже в полубессознательном состоянии, все еще питая надежды, я услышал сдавленный крик Доры:
— Рико! Рико!!
Я мгновенно понял, что произошла катастрофа.
Вырвавшись от пытавшихся меня удержать, я вбежал в комнату — и как раз вовремя, чтобы увидеть, как папа закрыл в последний раз глаза…
Я чувствовал себя так, словно меня ударили обухом по голове. Я ничего больше не понимал. Помню только, что Дору и меня силой уволакивали из комнаты. Я цеплялся за спинку кровати, Дора кричала, как сумасшедшая, после чего упала в обморок…»[432]
Энрико Карузо скончался в 9 часов 07 минут 2 августа 1921 года в номере неаполитанской гостиницы «Везувий» в возрасте сорока восьми лет. О последних минутах его жизни рассказывает Дороти: «Я услышала, как стенные часы пробили девять. Энрико открыл глаза и посмотрел на меня.
— Дора… я… хочу… пить…
Он закашлялся.
— Дора… они… снова… будут делать мне больно?..
Он начал задыхаться.
— Рико, родной. Не бойся. Все будет хорошо.
— Дора… я… не могу… вздохнуть…
Я увидела, как закрылись его глаза и упала рука. Закрыв лицо руками, я подумала: „Наконец-то ему хорошо“. Мне хотелось выйти на воздух, но я знала, что меня никто не поймет. Откуда-то неслись звуки рыданий. Бормоча молитвы, вошли две монашки. Я поднялась и вышла, боясь оглянуться назад…»[433]