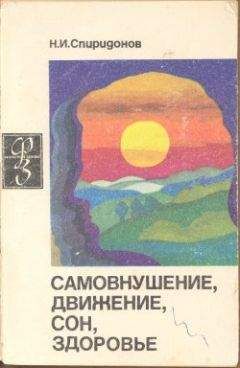Петр Валуев - Черный бор
– Жив ли он еще?
– Мы здесь не знаем.
– А она похоронена на кладбище у церкви?
– Здесь, на погосте, рядом с могилой сына. Вокруг могил железная решетка.
– Странно: я был в церкви и прошел вдоль ограды, но решетки не заметил.
– Вы прошли, может быть, по другой стене, ближе к алтарю.
– Целы ли на них надписи?
– Целы. И прежние, и та, которая вделана позже.
– Почему – позже?
– Так случилось, потому что барон позже пожелал того и писал генералу Северцову об этой надписи. Она не по-русски, а на английском языке.
– Почему – на английском?
– Генерал говорил, что она из английской книги взята.
– Проведи меня на ее могилу, Кондратий.
Печерин заметил, что по мере продолжения разговора выражение лица старика становилось менее угрюмым, и участие, с которым Печерин осведомлялся, производило на него выгодное впечатление. На пути к погосту он продолжал расспрашивать Кондратия о жене Вальдбаха, о нем самом и о том, как относились к их памяти его покойный отец и Северцов. Пройдя за церковную ограду, Кондратий повел Печерина вдоль южной стены и, сняв с себя фуражку, остановился не доходя до четырех памятников, которые своим видом отделялись от окрестных могил.
– Впереди, – сказал Кондратий, – покоятся родители Марьи Михайловны, а за ними – и она с сыном.
Выветрившиеся надгробные камни над могилами Бакларова и его жены не имели вокруг себя ограды, и надписи на них наполовину изгладились. Позади их, за решеткой, между прислонившимися к стене церкви кустами акаций и развесистым серебряным тополем, были два, неравной величины, памятника: небольшая плита из черного мрамора на каменном цоколе и восьмигранный высокий надгробный камень из такого же мрамора и на таком же цоколе. Надпись на лицевой стороне обозначала имя, отчество и фамилию, по браку и по рождению, баронессы Вальдбах. На одной из боковых сторон был обозначен день кончины; на другой значились слова из Послания св. апостола Павла к римлянам: «Ни единаго зла за зло воздающе… не себе отмщающе… мне отмщение… глаголет Господь». На последней, четвертой стороне была высечена, по своей явственности, видимо, позднейшая надпись, состоящая из следующих стихов:
Two locks, – and they are wondrous fair, –
Left me that vision mild;
The brown is from the mather’s hair,
The blond is from the child.
And when I see that lock of gold,
Pale grows the evening red;
And when the dark lock I behold,
I wish that I were dead.[1]
Печерин снял шляпу, подойдя к этим двум могилам, и долго молча в них всматривался. Он в особенности несколько раз мысленно перечитывал английскую надпись. Сердце в нем сжалось, и ему стало искренне и сильно жаль Вальдбаха. Печерин заметил, что у старика были слезы в глазах.
– Тебе жаль их, Кондратий, – сказал Печерин. – И мне жаль: особенно жаль бедного барона.
– Видно, Бог обоих любил, – тихо проговорил старик. – Ее к себе взял. Его опечалил. Бог того печалит, кого любит. Его святая воля.
Печерин невольно подумал при этом о самом себе. Теперь никакое горе его не тяготило. Но что будет дальше? Неужели это неизбежно: если благословение Божие – то и печаль?
Старательный уход за могилами был виден у этих двух памятников. Около них и вдоль окружавшей их решетки зеленелась ровная густая трава, и сквозь траву местами пробивались полевые цветы. Остальное пространство погоста имело тот вид пренебрежения и запустения, который мы привыкли встречать на наших кладбищах.
– Видно, ты заботишься об этих могилах, – сказал Печерин Кондратию. – Мне хотелось бы сделать то же. У меня там, перед домом, насадили цветы. Сходи и нарви, и принеси сюда. А я между тем обойду вокруг церкви.
Кондратий что-то хотел сказать в ответ, но промолчал, повернул к выходу из ограды и ускоренным шагом направился к клумбе, над засадкой которой усердно трудился перед приездом Печерина старый черноборский садовник.
Печерин обошел вдоль ограды весь погост. На нем местами теснились те деревянные кресты, с острыми и узкими над ними крышами, которые мы одинаково видим на сельских и на загородных петербургских кладбищах. Надгробными камнями с высеченными на них надписями были обозначены две-три могилы лиц купеческого звания. Печерин рассеянным взглядом смотрел на кресты и прочитывал некоторые имена. Воображение постоянно рисовало перед ним мужа и жену Вальдбахов. Их судьба занимала его мысль, и те две надписи прочно врезались в его память. Особенно занимала его надпись из Послания к римлянам – она казалась ему загадочной. Кому и за кого отмщение?.. Кондратий должен был знать об этом. Печерин сел, в раздумье, на ступенях церковного притвора и тщетно старался припомнить, не было ли в рассказах его покойного отца чего-нибудь, что могло бы хотя несколько разъяснить всю эту таинственность.
Между тем Кондратий принес цветы. Сам Печерин старательно уложил их у подножия памятника, с лицевой стороны, и, обратясь к Кондратию, снова заговорил:
– Ты, наверное, больше знаешь о Марии Михайловне и ее муже, чем говоришь. Были у них враги?
– Может, и были, – нерешительно отвечал Кондратий. – Барон мне не указал.
– «Барон не указал», – повторил Печерин. – Это, быть может, значит, что не указал говорить. Мне бы сказать он позволил… Пойдем назад, в часовню, Кондратий. Есть ли у тебя там свечи?
– Есть, – тихо отвечал Кондратий, – простые, мои копеечные. Я иногда ставлю.
Печерин вместе с Кондратием молча дошел до дома, отпустил ожидавшего его на крыльце садовника и прямо прошел в часовню.
В Печерине жило внутреннее, несколько смутное, но способное к душевной теплоте чувство, унаследованное от рано умершей матери и от отца, хотя в покойном это чувство проявлялось, среди водоворота светской и служебной жизни, менее явственно и менее постоянно. Печерин сам жил такой жизнью, и потому обычный круг его озабоченности, помыслов и занятий редко соприкасался с той затаенной в душе искрой, которая, однако же, могла по временам разгораться, светлеть в уме и согревать сердце. Такая минута внутреннего озарения и теплоты настала для него теперь. Он не давал себе отчета в том, что им ощущалось; он не произносил никакой уставной молитвы. Но он смотрел на икону, думал о жене Вальдбаха, о неутешной печали ее мужа, чувствовал, что он почему-то сам теперь страдал за них, и чувствовал, что теперь пред ним и над ним, как тогда над ними, было то неисповедимое, непостижимое, незримое, перед чем мы склоняем голову с ощущением благоговейного страха.
Когда Печерин оглянулся, он увидел, что за ним, у стены, стоял на коленях и плакал Кондратий, наклонив голову почти До земли и то одной рукой, то другой утирая слезы, струившиеся из его глаз. Он как будто не заметил, что Печерин подходил к нему; но когда Печерин тихо положил ему руку на плечо, он схватил эту руку и поцеловал ее.
– Что делаешь ты, Кондратий? – сказал Печерин, быстрым движением высвободив свою руку.
– Если бы Марья Михайловна и барон были здесь, – сказал Кондратий, вставая, – они приказали бы мне поцеловать вашу руку. Я двадцать пять лет делаю, что они мне приказали, и когда в чем-либо усомнюсь, то стараюсь придумать, что бы они могли приказать.
Лицо старика совершенно изменилось. Вместо прежней угрюмой сосредоточенности на нем виделась печаль; но, рядом с выражением этой печали, оно приняло и какое-то особое, почти торжественное выражение, которое поразило Печерина.
– Ваше высокоблагородие, Борис Алексеевич! – вдруг сказал Кондратий. – Вам я все поведаю. Были враги, были злодеи… извели Марью Михайловну… ее отравили… и сына отравили…
– Что ты?! – воскликнул Печерин.
– Оно так было, Борис Алексеевич. И кто извел?! Кто отравил?! Сестра извела! Сестра отравила!
– Сестра! – повторил Печерин с возрастающим ужасом.
– Родная сестра, Тебенина. Ей нужен был Черный Бор. Она всегда завидовала, всегда ненавидела сестру. Она отравила. А Марья Михайловна, умирая, запретила мстить. Она только перед своей смертью убедилась, что и сын был отравлен. Она заклинала барона не мстить. Он обещал и сдержал, что обещал.
Кондратий взял с аналоя лежавшую на нем под парчой книгу и подал ее Печерину. То был молитвенник Марии Михайловны, и на первой странице было ее рукой написано то самое изречение апостола Павла, которое помещено и на памятнике над ее могилой.
– Барон не захотел взять с собой этого молитвенника, – продолжал Кондратий. – Он взял другой, а этот мне приказал хранить в часовне.
Печерин молча всматривался в написанные покойной строки. Чернила выцвели; буквы казались бледно-бурыми; но тонкий и правильный почерк остался виден.
– И она мстить запретила! – сказал как бы про себя Печерин.
– Господь отомстил, – сказал на это Кондратий. – Все дети Тебениных вымерли. Марья Михайловна скончалась накануне Петрова дня. Через год после того, в Петровский пост, умер у Тебениных старший сын. И затем, из года в год, как Петровки – так у них смерть. И новые дети рождались, но жить Господь не давал. Наконец, Его рука вымела их отсюда. Они распродали имения и куда-то переселились.