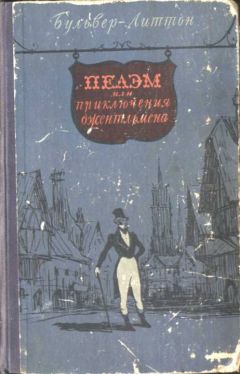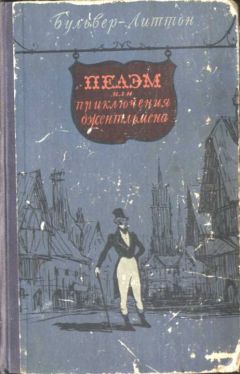Эдвард Бульвер-Литтон - Кенелм Чиллингли, его приключения и взгляды на жизнь
– Услышим мы их?
– Боюсь, если это не наскучит вам, то наскучит вашему другу.
– Я уверен в обратном. Том, вы поете?
– Прежде пел, – робко произнес Том и понурил голову. – Мне хотелось бы послушать, этого джентльмена.
– Но я только сейчас сочинил эти стихи и пока не могу положить их на мелодию, но запомнил их настолько, чтобы прочесть.
Певец помолчал, как бы собираясь с мыслями, а потом нежным, звучным голосом и с той чистотой произношения, которая отличала его, когда он читал или пел, прочел стихи, внося в свое исполнение такую трогательность и разнообразие, которых нельзя было бы уловить, ограничившись только их прочтением.
Цветочница на перекрестке
На углу меж грязных лондонских домов,
Бледная девчушка летом и в морозы
Предлагает робко свой запас цветов:
Старикам – фиалки, юным девам – розы.
Не нужны фиалки,
Не нужны и розы,
Не до них прохожим:
Лондон – город прозы.
Этот слишком грустен, слишком весел тот.
У того – теплица, тот – с дырой в кармане.
А цветы живые видишь круглый год,
Для таких покупок часто нет желанья.
Выручка плохая:
Не продашь в морозы
Старикам – фиалки,
Юным девам – розы.
Когда поэт кончил, он не замолчал, ожидая одобрения, и не потупил скромно глаза, как это делают многие читающие свои произведения, но, ставя свое искусство гораздо выше, чем его слушатели, торопливо продолжал с некоторым унынием:
– Я с большим огорчением вижу, что мне лучше удаются этюды, чем стихи. Можете ли вы, – обратился он к Кенелму, – хотя бы понять, что я хочу сказать этими стихами?
Кенелм. Вы понимаете, Том?
Том (шепотом). Нет.
Кенелм. Я полагаю, что в своей «Цветочнице» наш друг творил не поэзию вообще, но поэзию свою собственную, вовсе непохожую на ту, которая теперь в моде. Однако я толкую этот образ шире и под цветочницей понимаю символ подлинной истины или красоты, за которую, живя искусственной жизнью тесных улиц, мы в суете не успеваем заплатить даже пенни.
– Понимайте как хотите, – сказал певец, улыбаясь и вздыхая, – но я не выразил словами и половины того, что было у меня в мыслях, и так удачно, как это получилось у меня в альбоме.
– А-а! Каким же образом? – спросил Кенелм.
– Воплощение моей мысли, которое я хотел дать в этюде, – подразумевайте под этим поэзию и называйте как хотите, – не связано с одиночеством на перекрестке двух улиц – девочка стоит на зеленом холме, а город, этот хаос зданий, расстилается внизу, и, не заботясь о деньгах и прохожих, она играет сорванными цветами, бросает их к небу и следит за ними глазами.
– Хорошо, – пробормотал Кенелм, – хорошо! – А потом после продолжительного молчания еще тише добавил: – Простите мне мое тогдашнее замечание о бифштексе. Но сознайтесь, что я прав в другом отношении: то, что вы называете этюдом с натуры, есть этюд вашей собственной мысли…
Глава X
Девочка с мячиком из цветов исчезла с пригорка. Спускаясь над улицами все ниже, розовые облака скоро растаяли на горизонте. Настала ночь, когда три путника вошли в город. Том упрашивал Кенелма зайти к дяде, обещая радушный прием, постель и ужин, но Кенелм отказался. Он был убежден, что для Тома будет лучше, если при первой встрече с родственником оставить его наедине, но предложил провести вместе весь следующий день и согласился утром зайти за Томом.
Расставшись с Томом у дома его дяди, Кенелм сказал певцу:
– Вы, вероятно, направляетесь в какой-нибудь отель; могу я составить вам компанию? Мы поужинаем вместе, и я с удовольствием послушаю ваши рассуждения о природе и поэзии.
– Я польщен вашим предложением, но у меня в городе есть друзья, у которых я обычно останавливаюсь, они ждут меня. Разве вы не заметили, что я переоделся? Здесь меня знают не как странствующего певца.
Кенелм взглянул на костюм певца и только теперь заметил в нем перемену. Костюм, как и прежний, был живописен в своем роде, но, в общем, такой, какой джентльмены самого высокого звания часто носят в деревне, – брюки до колен, все очень новое и добротное, вплоть до башмаков с квадратными носками, шнурками и пряжками.
– Я боюсь, – серьезно оказал Кенелм, – что перемена в вашем туалете означает близость тех хорошеньких девушек, о которых мы говорили при нашем первом свидании. Согласно дарвиновской теории естественного отбора, от красивых перьев часто зависит благосклонность Дженни Рен[119] и вообще всех представительниц ее пола. Только, говорят, птицы с красивым оперением очень редко бывают певчими: несправедливо по отношению к соперникам сочетать в себе оба рода привлекательности.
Певец засмеялся.
– В доме моего друга есть только одна девушка – его племянница; она дурнушка, и ей всего тринадцать лет. Но для меня общество женщин, безобразных или миловидных – это все равно, совершенно необходимо. И мне пришлось обходиться без него так долго, что не могу даже выразить вам, как отрадно было отряхнуть, говоря фигурально, с моих мыслей дорожную пыль, как только я опять увидел вокруг себя…
– …юбки, – перебил Кенелм. – Берегитесь! Мой бедный друг, с которым вы встретили меня, может служить серьезным предостережением против увлечения юбками, и этим я намерен воспользоваться. Он переживает большое горе, а могло случиться даже нечто худшее, чем горе. Друг останется в этом городе. Если и вы останетесь здесь, позвольте ему видеться иногда с вами. Для него будет настоящим благодеянием, если вы отвлечете его мысли от реальной жизни в сады поэзии; только не пойте и не говорите ему о любви.
– Я чту всех влюбленных, – сказал певец с искренней нежностью в тоне, и охотно взялся бы развлекать или утешать вашего друга. Но я уже послезавтра покину Ласкомб, куда приходил только по своим финансовым делам.
– Я тоже скоро уйду отсюда. Но по крайней мере проведите с нами завтра несколько часов.
– Непременно! С полудня и до заката солнца я свободен и буду бродить по окрестностям. Если вы оба пойдете со мной, это доставит мне большое удовольствие. Я зайду за вами завтра в двенадцать часов. И могу порекомендовать вам отель, как раз, напротив которого мы находимся. «Золотой ягненок» хвалят за хорошие услуги и отличный стол.
Кенелм почувствовал, что с ним хотят расстаться, и прекрасно понял, что певец, желая сохранить в тайне свое имя, умышленно не дал адреса тех людей, у которых он остановился.
– Еще одно слово, – сказал Кенелм. – Ваши друзья, живущие здесь, без сомнения, могут, по вашему описанию девочки и старика, узнать ее адрес. А я хотел бы, чтобы мой товарищ подружился с ней. Уж здесь-то интерес к юбке будет невинен и безопасен; и я не знаю ничего более способного смягчить и обратить к чистоте и кротости такое широкое и страстное сердце, как у Тома, – теперь страдающее от ужасной пустоты, – как нежное участие к ребенку.
Певец изменился в лице.
– Сэр, уж не колдун ли вы, если говорите это мне?
– Я не колдун, но угадываю из ваших слов, что у вас есть маленький ребенок. Тем лучше: ребенок может предохранить вас от больших бед. Помните о ребенке. Спокойной ночи!
Кенелм переступил порог «Золотого ягненка», снял комнату, умылся, заказал ужин и со своим обычным аппетитом уничтожил его. А потом, чувствуя приступ той меланхолии, которая так своеобразно сочеталась у него с геркулесовским сложением, заставил себя прогнать мрачные мысли и вышел на освещенные газом улицы.
Город был большой и красивый, красивее Тор-Хэдема благодаря местоположению в долине, окруженной лесистыми холмами и орошаемой прекрасной рекой, извилины которой, когда она была еще скромным ручьем, мы уже видели, красивее еще потому, что здесь был прекрасный собор, отовсюду хорошо видный, окруженный старинными домами, принадлежавшими духовенству и представителям светского дворянства со средневековыми вкусами. На главной улице было много прохожих: одни степенно возвращались домой от вечерни, другие, помоложе, не спеша прогуливались со своими возлюбленными или родными, третьи – должно быть, холостяки и старые девы – прохаживались рука об руку с такими же холостяками или старыми девами. По этой улице Кенелм и пошел с рассеянным видом. Повернув направо, он оказался перед собором. Тут было пустынно. Уединение нравилось Кенелму, и он долго оставался здесь, глядя на великолепный храм, поднимавший свои шпили и башенки к темно-синему звездному небу.
Задумчиво пошел он по лабиринту темных переулков. Хотя лавки уже заперли, двери многих домов были отворены, и на их порогах жители, отдыхая, курили трубки. Женщины сидели на ступеньках и болтали, а дети шумно играли или ссорились в канаве у дороги. Вся эта картина отнюдь не рисовала английское воскресенье в особенно розовом свете.