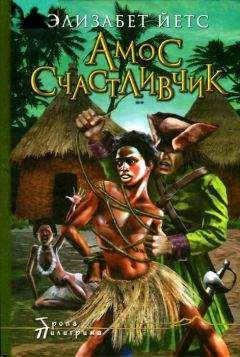Жозе Эса де Кейрош - Переписка Фрадике Мендеса
Не знаю, был ли он красивым мужчиной на женский взгляд. Но мне он казался великолепным образчиком мужской красоты: вся его статная фигура излучала какое-то спокойное изящество и покоряла несокрушимым здоровьем. Жизнь, проходившая в столь разнообразной и утомительной деятельности, не оставила никаких следов усталости на его лице. Казалось, он только что появился на свет из живых недр матери-природы – вот такой, как есть: аккуратно выбритый, в черном костюме. И хотя Видигал сообщил мне, что как раз в Петров день Фрадике отпраздновал в Синтре тридцать третью годовщину своего появления на свет, в теле его все еще чувствовалась мускулистая и гибкая ловкость эфеба,[47] напоминавшая отрочество древнего мира. Лишь когда он улыбался или смотрел на вас, вы видели, что за плечами у него двадцать веков истории литературы.
Пробежав поданное швейцаром письмо, Фрадике Мендес развел руками с видом комического бессилия и воззвал к сочувствию Видигала: опять таможня, вечный источник канители! Теперь у них застряла египетская мумия…
– Мумия?
Ну да, историческая реликвия: подлинная мумия высокочтимого Пентаура, летописца и ученого книжника из храма Аммона в Фивах. Фрадике выписал эту мумию из Парижа, чтобы преподнести супруге английского дипломата, леди Росс, с которой подружился в Афинах; в расцвете молодости и светских успехов эта дама коллекционировала погребальные древности Египта и Ассирии… Но, несмотря на самые хитроумные уловки, Фрадике не находил способа вырвать покойного мудреца из таможенных хранилищ, где вместе с ним водворились смятение и страх. В тот же вечер, когда Пентаур, завернутый в священные пелены и заколоченный в ящик, высадился на берег, растерявшаяся таможня дала знать в полицию. Подозрение в убийстве вскоре отпало, но возникла новая непреодолимая трудность: под какую графу таможенного тарифа подвести останки Рамзесова летописца?[48] Фрадике предлагал числить его по статье о вяленых сельдях. В сущности, что такое вяленая селедка, как не мумия живой селедки, только без ритуальных пелен и священных надписей? Не все ли равно казне, кем вы были: рыбой или летописцем? В обоих случаях перед таможней тело существа, некогда живого, а теперь высушенного путем вяления. Плавали ли вы при жизни в стае рыб по волнам Северного моря или четыре тысячи лет назад, на берегах Нила заносили на свитки молитвы Аммону и комментировали главы о конце дня – это, безусловно, не входит в компетенцию фискальных властей. Разве не логично? Тем не менее таможенное начальство продолжало сомневаться и чесать в затылке, созерцая пестрый ящик, в котором было заключено столько мудрости и столько благочестия… А вот это письмо прислали друзья любезные Пинтос Бастосы; они советуют действовать простым исконно португальским способом: добыть записочку от министра финансов и вызволить почтенного летописца без всякой пошлины вообще. Но кто достанет такую записочку, если не Маркос Видигал – столп «возрожденцев» и их музыкальный обозреватель?
Видигал, сияя, потирал руки. Вот, наконец, достойное его дело! Ведь это даже элегантно: вырвать из лап казны мумию придворного египетских фараонов! Схватив письмо Пинтос Бастосов, Маркос вскочил в пролетку и крикнул кучеру адрес министра, своего политического единомышленника, тоже писавшего в «Сентябрьской революции». И вот я остался один с Фрадике Мендесом. Он пригласил меня подняться к нему в номер и в ожидании Видигала выпить содовой с лимоном.
Поднимаясь по лестнице, автор «Лапидарий» сказал что-то насчет тяжелого августовского зноя. В это мгновение я беглым взглядом оценивал в зеркале покрой моего сюртука и свежесть моей розы, – и, сам не знаю как, выпалил следующее:
– Что говорить, жара аспидская!
Не успели замереть в воздухе эти вульгарные звуки, как я впал в глубокое уныние: как можно было произнести здесь столь грубые слова, уместные разве лишь в табачной лавке, и осквернить ими, как жирными пятнами, общество большого художника, автора «Лапидарий», человека, беседовавшего на берегу моря с Виктором Гюго!.. Обливаясь потом, совершенно подавленный, я вошел в номер вслед за Фрадике. Тщетно силился я подыскать какую-нибудь другую фразу насчет жары – хорошо построенную, оригинальную, остроумную… Тщетно! В голову мне приходили все те же пошлости, в том же плебейской духе: «Того и гляди, живьем сваришься!»; «Чертово пекло!»; «Хоть сало топить!»… Я пережил одну из тех жестоких минут, какие выпадают на долю лишь двадцатилетним начинающим поэтам, навеки метят душу и никогда не забываются.
К счастью, Фрадике исчез за портьерой алькова, и я смог утереть пот и рассудить, что глубокие мыслители всегда выражаются так: с грубоватой прямотой. Эта мысль немного успокоила меня, и на смену смущению пришло любопытство. Мне захотелось обнаружить в обстановке гостиничного номера что-нибудь, что выдавало бы оригинальность жившего здесь человека. Я увидел только несколько стульев, обитых потертым темно-синим репсом, люстру под тюлевым чехлом, консоль на высоких золоченых ножках, стоявшую между распахнутыми окнами, откуда видна была река. На мраморной доске этой консоли и среди книг, загромождавших старый письменный стол черного дерева, возвышались великолепные букеты цветов, а в углу комнаты я увидел мягкий, широкий диван (поставленный, несомненно, самим Фрадике), покрытый двумя восточными одеялами слепяще-ярких расцветок. И еще в комнате блуждал какой-то странный аромат, тоже отдававший востоком, – пахло как будто измирскими розами, с примесью корицы и майорана.
Фрадике Мендес вышел из алькова в шелковом китайском халате – настоящем, какие носят мандарины, – из зеленого шелка с вышивкой в виде цветков миндального дерева. Я изумился и окончательно оробел. Тут я заметил, что волосы у Фрадике темно-каштанового цвета и что они слегка вьются на лбу, белом и гладком, как слоновая кость нормандской полировки. А глаза, светившиеся теперь приветливым прямодушием, утратили свою глубокую черноту, которую я мысленно сравнивал с ониксом, и приобрели тот теплый коричневатый оттенок, какой бывает у гаванского табака. Он закурил сигаретку и велел подать содовую с лимоном: это распоряжение относилось к удивительнейшему на вид слуге – седоволосому, важному, носившему широкие брюки в черно-зеленую клетку, жемчужную булавку в галстуке и три желтые гвоздики в петлице. Я разобрал, что звали этого роскошного слугу Смит. Смущение мое все возрастало. Фрадике, улыбнувшись, сказал тоном искреннего расположения:
– Наш Маркос – настоящий клад.
Я согласился и стал рассказывать, как давно знаю и люблю Видигала – еще с первого курса университета, с беспутных времен, посвященных концертине и зубрежке по «себенте[49]». Фрадике тоже вспомнил Коимбру и весело осведомился о Педро Пенедо, Паэсе и других профессорах вымирающего тупоумного типа; затем он заговорил о тетках Камела, милых старухах, которые общались со столькими поколениями вертопрахов-студентов и все же сумели соблюсти свою девственность, в награду за что обрели право вечно жить на небе и играть на арфе рядом со святой Цецилией[50]… Трактирчик теток Камела был для него одним из самых приятных воспоминаний о Коимбре: как забыть обильные ужины, стоившие всего семьдесят рейсов, шумную компанию студентов в полутемном погребке, где плохо видно сквозь облака табачного дыма, где каждый держит свою тарелку сардинок на коленях и воздух гудит от громогласных дискуссий о философии и искусстве! А что это были за сардинки! Какое божественное умение жарить рыбу! Сколько раз он потом вспоминал в Париже взрывы смеха, юношеские мечты и вкусные угощения!..
Все это говорилось просто, искренне, молодо; я мысленно определил его тон как «кристальный». Затем Фрадике растянулся на диване, а я остался у стола, где лепестки роз осыпались на томики Дарвина и падре Мануэла Бернардеса.[51] Робость моя немного рассеялась, и я весь горел желанием поделиться с этим гениальным человеком своими мыслями о литературе позабыв, что он, подобно Бэкону, предпочитает скрывать свой поэтический талант, или, недовольный этими творениями, не желает признавать их своими; словом, я заговорил о «Лапидариях».
Фрадике Мендес вынул изо рта сигарету и весело расхохотался; хохот его мог бы показаться насмешливым, если бы не румянец, выступивший на молочно-белом лице. Затем он сказал, что опубликование этих стихов под его настоящим именем было плодом коварства и легкомыслия Видигала. Фрадике не считал возможным подписываться под фрагментами рифмованной прозы, которые он пятнадцать лет назад, в возрасте подражаний, скопировал с Леконта де Лиля. Случилось это в Париже, летом, когда, он жил в мансарде у Люксембургского сада, весь горел верой в свой талант и жаждой труда и при каждой новой рифме готов был счесть себя гениальным новатором…
Я горячо восстал против этих его слов и заявил, что после Бодлера ничто не производило на меня такого впечатления, как «Лапидарии»! И я уже приготовился сказать свою любимую фразу, которую так усердно обдумывал всю ночь: «Форма ваших стихов – это божественный мрамор…», но Фрадике встал с дивана и с любопытством устремил на меня свои проницательные ониксовые глаза, пронизывавшие насквозь.