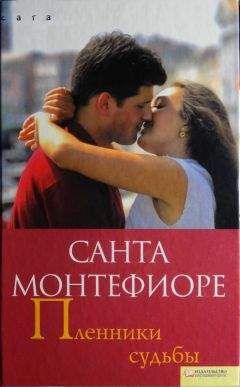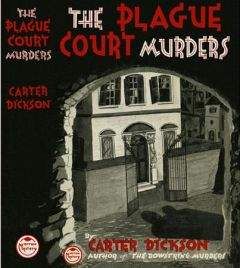Жорж Санд - Спиридион
Наконец я получил приказ воротиться в монастырь; в то время я слегка приболел; болезнь моя не имела ничего общего с чумой, однако настоятеля эта весть напугала так сильно, что он согласился терпеливо ожидать полного моего выздоровления. Мне было дано позволение оставаться вне монастырских стен столько, сколько потребуется; я решил провести это время с как можно большей пользой.
До той поры я не разрывал обет по преимуществу из боязни скандала: не то чтобы я дорожил мнением света, с которым не желал иметь ничего общего; не то чтобы меня волновало уважение монахов, которых сам я не уважал ни в малейшей степени, однако природная твердость характера, глубокая убежденность в том, что всякая клятва священна, а главное, неодолимое почтение к памяти Эброния удерживали меня. Теперь, когда монастырь, можно сказать, сам исторг меня из своих пределов, я счел, что смогу оставить его, не подавая дурного примера и не изменяя собственным убеждениям. Я размышлял о жизни, какую вел в монастыре и какую мог бы продолжать, останься я в его стенах. Я спрашивал себя, может ли выйти из моего монастырского существования что-нибудь великое или полезное. Спиридион желал вести жизнь ученого бенедиктинца, однако для меня жизнь эта, какую он избрал для себя и какой, по всей видимости, желал для своих преемников, сделалась невозможной. Должно быть, первые спутники Спиридиона вселили в его душу мечту об уединенных ученых занятиях, о великих трудах, совершаемых под древними сводами святилища науки людьми сведущими и упорными. Спиридион успел узнать последних замечательных людей, воспитанных в монастыре, и тем не менее, по рассказам очевидцев, перед смертью он окончательно разочаровался в своем создании и не питал иллюзий относительно его будущего. Что же касается меня, то могу сказать о себе – без гордости, ибо имею право хвастать отнюдь не славными свершениями, а всего лишь тяжкими трудами, – что я был последним бенедиктинцем этого века, однако я ясно сознавал, что даже избранная мною роль мирного ученого более мне не подходит. Для покойных ученых занятий потребен покойный ум, а разве мог я сохранять хладнокровие в то время, когда род человеческий переживал грозные потрясения? Я видел государства, пребывающие на грани крушения, видел троны, колеблющиеся словно тростник в бурю, видел народы, просыпающиеся после долгого сна и грозящие отомстить всем своим врагам, видел добрых и злых, вместе стремящихся разорвать цепи, вместе питающих ненависть к прошлому. Я видел, что скоро разодрана будет завеса в храме надвое сверху донизу, как в час воскресения Распятого, и предстанут гневному взору народов, за коих страдал он, все гнусности, творящиеся за церковными стенами. Как же мог я взирать равнодушно на все эти предвестия великого переворота? Как мог я оставаться глух к рокоту людского океана, который грозил сломать плотины и затопить империи? В ожидании катастрофы, свидетелями которой все мы станем очень скоро, последние монахи могут в спешке опустошать винные погреба, дабы, напившись допьяна и наевшись до отвалу, растянуться на нечистой постели и ожидать гибели во хмелю. Но мне подобная участь не мила; мне потребно знать, как и зачем я жил, зачем и как должен умереть.
Всесторонне обдумав способы распорядиться обретенной свободой, я понял, что создан исключительно для трудов умственных. Разумеется, в первые годы моего разочарования в католицизме я вынашивал честолюбивые замыслы и предавался дерзким мечтаниям; я намеревался реформировать Церковь куда решительнее, чем Лютер; я желал усовершенствовать протестантизм. Ибо, подобно Лютеру, я был христианином; вскормленный в лоне Церкви, я не мог вообразить себе религию, рожденную вне
Церкви. Однако, перестав верить в Христа, сделавшись философом вослед своему веку, я не видел больше возможностей обновить Церковь; все они были уже испробованы и исчерпаны. В отношении свободы принципов я зашел так же далеко, как и прочие, и видел, что, дабы построить что-либо в мире, состоящем из одних руин, надобно предложить разрушителям хоть какой-нибудь план созидания. Я мог бы сделать нечто полезное в области естественных наук и, пожалуй, должен был это сделать, однако перспектива составить себе имя на открытиях такого рода нимало меня не привлекала; более того, я чувствовал, что хочу и могу заниматься только одним – исследованием вопросов философических. Я изучал естественные науки лишь в надежде, что они станут для меня путеводной нитью в лабиринтах метафизики и приведут к познанию Верховного существа. Потерпев неудачу, я разлюбил эти занятия, с самого начала имевшие для меня интерес второстепенный; утрата же каких бы то ни было верований оказалась испытанием столь нелегким, что я не стремился объявлять о нем людям. Да и что значил бы лишний голос в том громком хоре проклятий, который звучал по адресу гибнущей Церкви? Было бы подло бросать камень в установление умирающее, ставшее вдобавок жертвой французской революции, последствия которой, Анжель, скажутся в наших краях куда сильнее и скорее, чем полагают здешние обитатели. Вот почему я столько раз советовал тебе не покидать поста, на котором, возможно, ты в самое ближайшее время сможешь встретить лицом к лицу опасность, достойную отпора. Что же касается меня, то хотя дух у меня уже давно не монашеский, платье я ношу монашеское и никогда его не сброшу. Я принадлежу к этому сословию; не скажу, что оно ничем не хуже других, но оно существует, и чем хуже его репутация, тем важнее людям, к нему принадлежащим, вести себя с достоинством. Если нам придется жить в миру, мы, уверяю тебя, встретим не один иронический или презрительный взгляд; печальным ночным птицам, пятнадцать столетий скрывавшимся за темными и пыльными старыми стенами, нелегко выйти на свет. Сколько ни отращивай волосы, они все равно не спрячут лежащей на нас несмываемой печати нашего сословия – тонзуры; будем же идти по жизни с гордо поднятой головой, не стыдясь этого стигмата, прежде вызывавшего у народов почтение, а теперь пробуждающего в них ненависть. Разумеется, Анжель, нам придется нести наказание за преступления, которых мы не совершали, за пороки, которых мы не знали. Пусть спасается бегством тот, кто чувствует себя виновным; пусть прячет лицо тот, кто заслужил пощечину. Но мы – иное дело; пусть ударят нас по щеке, пусть свяжут нам руки, мы сохраним в уме и в душе память о крестной муке Христа, этого возвышенного философа, чье имя я произношу редко, ибо слишком часто твердят его вокруг меня уста нечистые, я же стараюсь упоминать это славное имя, лишь когда веду речь о вещах серьезнейших, о чувствах глубочайших.
Как же мог я с толком распорядиться своей свободой? Я искал ответа на этот вопрос, но не находил его. Конечно, если бы меня влекла светская суета, охота к перемене мест и зрелищ, я бы уехал надолго, а быть может, и навсегда. Я исследовал бы дальние страны, пересек бескрайние моря, познакомился с дикими племенами. Подобные соблазны не раз дразнили меня. Я мечтал вместе с каким-нибудь ученым миссионером покинуть шумные молодые нации и вкусить спокойной жизни среди народов, свято хранящих законы и верования древности. В Китае и тем более в Индии открылось бы мне обширное поприще для разысканий и наблюдений. Однако стоило мне вообразить этот замогильный покой, на который я обрек бы себя еще при жизни, как меня охватывало непреодолимое отвращение. Мне не хотелось видеть народы, которые умерли в отношении умственном, которые, точно быки с ярмом, смиряются с законами далеких предков и живут, спеленутые по рукам и ногам, точно египетские мумии. Какой бы страшной, жестокой и кровавой ни оказалась развязка драмы, готовившейся в непосредственной близости от меня, я знал, что это – история, это – вечный круговорот вещей, это – злой рок или воля Провидения, одним словом, это – жизнь, кипящая у моих ног, словно лава. Я скорее согласился бы уподобиться травинке, уносимой этим бурлящим потоком, нежели отыскивать под охладелым пеплом окаменелые останки жизни давно угасшей.
Не успел я утвердиться в этих мыслях, как меня посетило новое искушение; теперь я вознамерился броситься в самый водоворот событий, покинуть здешние края, еще не очнувшиеся от дремоты, и отправиться туда, где сверкают молнии и гремит гром. Забыв, что я монах и намерен оставаться монахом до конца своих дней, я почувствовал себя мужчиной, причем мужчиной, полным энергии и страсти; я стал воображать себе жизнь действенную и, наскучив размышлениями, ощутил, словно юный школяр (вернее было бы сказать, словно юный скакун), настоятельную потребность двигаться, растрачивать свои силы. Тщеславие мое принялось дурманить меня лживыми обещаниями. Оно шептало мне, что там, в миру, я, возможно, смогу принести пользу, что философические идеи сделали свое дело и настал момент воплотить их в жизнь; что нынче общество нуждается в высоких чувствах, что скоро для всех людей пробьет час испытания, и тут-то выяснится, что возвышенные сердца столь же необходимы, сколь и редки. Я ошибался. Великие эпохи порождают великих людей; одно великое дело влечет за собой другое. Французская революция, многократно оболганная тупицами, которых она приводит в ужас, и святошами, которых она грозит истребить, ежедневно – хотя ты, Анжель, об этом не подозреваешь – рождает на свет фаланги героев: в здешних крах этих людей осыпают бранью, но наступит день, когда ты станешь с жадностью выискивать их имена в анналах современной истории.