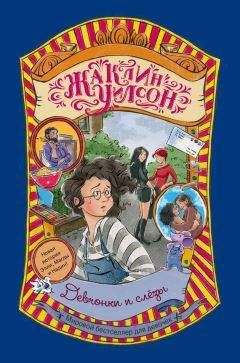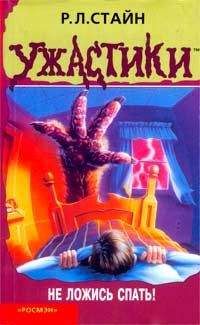Иван Тургенев - Воспоминания о Белинском
Не могу на этом месте не упомянуть кстати о мистификации, которой в то время неоднократно подвергался один издатель толстого журнала, столь же одаренный практическими талантами, сколь обиженный природою насчет эстетических способностей {15} . Ему, например, кто-нибудь из кружка Белинского приносил новое стихотворение и принимался читать, не предварив своей жертвы ни одним словом, в чем состояла суть стихотворения и почему оно удостоивалось прочтения. Тон сперва пускался в ход иронический; издатель, заключавший из этого тона, что ему хотят представить образчик безвкусия или нелепости, начинал посмеиваться, пожимать плечами; тогда чтец переводил понемногу тон из иронического в серьезный, важный, восторженный; издатель, полагая, что он ошибся, не так понял, начинал одобрительно мычать, качать головою, иногда даже произносил: «Недурно! хорошо!» Тогда чтец снова прибегал к ироническим нотам и снова увлекал за собою слушателя, возвращался к восторженному настроению – и тот опять похваливал… Если стихотворение попадалось длинное, подобные вариации, напоминающие игру в головки из каучука, то и дело меняющие свое выражение под давлением пальцев, можно было совершить несколько раз. Кончалось тем, что несчастный издатель приходил в совершенный тупик и уже не изображал на своем, впрочем весьма выразительном, лице ни сочувственного одобрения, ни сочувственного порицания. У Белинского нервы не были довольно крепки, сам он не предавался подобным упражнениям; да и правдивость его была слишком велика – он не мог изменить ей даже ради шутки, но смеялся он до слез, когда ему сообщали подробности мистификации.
* * *Другое замечательное качество Белинского как критика было его понимание того, что именно стоит на очереди, что требует немедленного разрешения, в чем сказывается «злоба дня». Не в пору гость хуже татарина, гласит пословица; не в пору возвещенная истина хуже лжи, не в пору поднятый вопрос только путает и мешает. Белинский никогда бы не позволил себе той ошибки, в которую впал даровитый Добролюбов; {16} он не стал бы, например, с ожесточением бранить Кавура [6] , Пальмерстона, вообще парламентаризм, как неполную и потому неверную форму правления. Даже допустив справедливость упреков, заслуженных Кавуром, он бы понял всю несвоевременность (у нас, в России, в 1862 году) подобных нападений; он бы понял, какой партии они должны были оказать услугу, кто бы порадовался им! Белинский очень хорошо сознавал, что при обстановке, среди которой он действовал, ему не следовало выходить из круга чисто литературной критики. Во-первых, при тогдашних официальных, житейских, цензурных условиях иначе действовать было слишком затруднительно; уже и так он едва мог устоять против бури угроз и доносов, которую возбудило его отрицание наших псевдоклассических авторитетов; а во-вторых, он очень ясно видел и понимал, что в развитии каждого народа литературная эпоха предшествует другим; что, не пережив и не преодолев ее, нельзя двигаться вперед; что критика, в смысле отрицания фальши и лжи, должна сперва подвергнуть анализу явления литературные – и что именно в этом и состояло его собственное призвание. Его политические, социальные убеждения были очень сильны и определительно резки; но они оставались в сфере инстинктивных симпатий и антипатий. Повторяю: Белинский знал, что нечего было думать применять их, проводить их в действительность; да если б оно и стало возможным – в нем самом не было ни достаточной подготовки, ни даже потребного на то темперамента; он и это знал – и, с свойственным ему практическим пониманием своей роли, сам ограничил круг своей деятельности, сжал ее в известные пределы [7] . Зато как литературный критик он был именно тем, что англичане называют «the right man on the right place», «настоящим человеком на настоящем месте», чего нельзя сказать об его преемниках. Правда и то, что задача их была труднее и сложнее. Незадолго до смерти Белинский начинал чувствовать, что наступило время сделать новый шаг, выйти из того тесного круга; политико-экономические вопросы должны были сменить вопросы эстетические, литературные; но сам он себя уже устранял и указывал на другое лицо, в котором видел своего преемника, – на В. Н. Майкова, брата поэта; {17} к сожалению, этот талантливый молодой человек погиб в самом начале своего поприща и точно такой же смертью, какой погиб недавно другой много обещавший юноша, Д. И. Писарев {18} .
Имя Писарева напоминает мне следующее. Весной 1867 года, во время моего проезда через Петербург, он сделал мне честь – посетил меня. Я до тех пор с ним не встречался, но читал его статьи с интересом, хотя со многими положениями в них, вообще с их направлением, согласиться не мог. Особенно возмутили меня его статьи о Пушкине {19} . В течение разговора я откровенно высказался перед ним. Писарев с первого взгляда производил впечатление человека честного и умного, которому не только можно, но и должно говорить правду. «Вы, – начал я, – втоптали в грязь, между прочим, одно из самых трогательных стихотворений Пушкина (обращение его к последнему лицейскому товарищу, долженствующему остаться в живых: «Несчастный друг» и т. д.). Вы уверяете, что поэт советует приятелю просто взять да с горя нализаться. Эстетическое чувство в вас слишком живо: вы не могли сказать это серьезно – вы это сказали нарочно, с целью. Посмотрим, оправдывает ли вас эта цель. Я понимаю преувеличение, я допускаю карикатуру, – но преувеличение истины, карикатуру в дельном смысле, в настоящем направлении. Если б у нас молодые люди теперь только и делали, что стихи писали, как в блаженную эпоху альманахов, я бы понял, я бы, пожалуй, даже оправдал ваш злобный укор, вашу насмешку, я бы подумал: несправедливо, но полезно! А то, помилуйте, в кого вы стреляете? Уж точно по воробьям из пушки! Всего-то у нас осталось три-четыре человека, старички пятидесяти лет и свыше, которые еще упражняются в сочинении стихов; стоит ли яриться против них? Как будто нет тысячи других, животрепещущих вопросов, на которые вы, как журналист, обязанный прежде всех ощущать, чуять насущное, нужное, безотлагательное, должны обратить внимание публики? Поход на стихотворцев в 1866 году! Да это антикварская выходка, архаизм! Белинский – тот никогда бы не впал в такой просак!» Не знаю, что подумал Писарев, но он ничего не отвечал мне. Вероятно, он не согласился со мною.
Само собою разумеется, что понимание Белинским своего времени, своего назначения не мешало его задушевным убеждениям сквозить в каждом слове его статей, тем более что его отрицательная деятельность на поприще критики как нельзя лучше соответствовала той роли, которую он бы, наверное, выбрал в политически развитом обществе. Что он чувствовал и что он думал, про то ведал он один, ведали и некоторые из его друзей; но что он делал, что он печатал – неуклонно и строго держалось литературной почвы и двигалось исключительно на ней. Только в известном одном письме {20} эта страсть, которую он
…во тьме ночной
Вскормил слезами и тоской {21} ,
прорвалась наружу – как тот огонь, о котором говорит Лермонтов.
* * *Я прошу у читателя позволения привести в этом месте отрывок из лекции о Пушкине, прочтенной мною в 1859 году перед немногочисленным обществом {22} . Стараясь изобразить характер эпохи 30-х, 40-х годов, я должен был упомянуть о гоголевской сатире, о лермонтовском протесте, а потом и о значении критики Белинского. Одно упоминовение этого имени возбудило негодование большей части моих слушателей. Вот этот отрывок. (Мне придется начать несколько издалека; но это неизбежно.)
«А между тем как наш великий художник (Пушкин), отвернувшись от толпы и приблизившись, насколько мог, к народу, обдумывал свои заветные творения, пока по душе его проходили те образы, изучение которых невольно зарождает в нас мысль, что он один мог бы подарить нас и народной драмой, и народной эпопеей, – в нашем обществе, в нашей литературе совершались если не великие, то знаменательные события. Под влиянием особенных случайностей, особенных обстоятельств тогдашней жизни Европы (с 1830 по 1840 год) {23} у нас понемногу сложилось убеждение, конечно справедливое, но в ту эпоху едва ли не рановременное: убеждение в том, что мы не только великий народ, но что мы – великое, вполне овладевшее собою, незыблемо твердое государство и что художеству, что поэзии предстоит быть достойными провозвестниками этого величия и этой силы. Одновременно с распространением этого убеждения и, быть может, вызванная им, явилась целая фаланга людей, бесспорно даровитых, но на даровитости которых лежал общий отпечаток риторики, внешности, соответствующей той великой, но чисто внешней силе, которой они служили отголоском. Люди эти явились и в поэзии, и в живописи, и в журналистике, и даже на театральной сцене. Нужно ли называть их имена? Они в памяти у каждого – и стоит только вспомнить, кому рукоплескали, кого приветствовали в то время, когда вокруг умолкнувшего Пушкина водворилась тишина [8] . Это вторжение в общественную жизнь того, что мы решились бы назвать ложно-величавой школой, продолжалось недолго, хотя отражение ее в сферах, менее подвергнутых анализу критики, чем собственно литературная, художественная сфера, не прекратилось и до сих пор. Оно продолжалось недолго – но что было шума и грома! Как широко разлилась тогда эта школа! Некоторые из ее деятелей сами добродушно признавали себя за гениев. Со всем тем что-то неистинное, что-то мертвенное чувствовалось в ней даже в минуты ее кажущегося торжества – и ни одного живого, самобытного ума она себе не покорила безвозвратно. Произведения этой школы, проникнутые самоуверенностью, доходившей до самохвальства, посвященные возвеличиванию России – во что бы то ни стало, в самой сущности не имели ничего русского: это были какие-то пространные декорации, хлопотливо и небрежно воздвигнутые патриотами, не знавшими своей родины. Все это гремело, кичилось, все это считало себя достойным украшением великого государства и великого народа, – а час падения приближался. Но не последние глубоко художественные произведения Пушкина были причиною этого падения. Если бы даже они явились при его жизни – мы сомневаемся, оценила ли бы их тогда оглушенная, сбитая с толку публика. Они не могли служить полемическим целям; они могли одержать, и они одержали, победу своей собственной красотой, сопоставлением этой красоты и силы с безобразием и слабостью того ложно-величавого призрака; но в первое время, именно для того, чтобы разоблачить этот призрак во всей его пустоте, нужны были другие орудия, другие, более пронзительные силы – силы байронического лиризма, который уже являлся у нас однажды, но поверхностно и несерьезно {24} , и силы критики, юмора. И они не замедлили явиться. В сфере художества заговорил Гоголь, за ним Лермонтов; в сфере критики, мысли – Белинский. …В прошлой беседе с вами мы говорили о том значении, которое будущий историк нашей литературы придаст появлению Пушкина; но, без сомнения, обратит на себя внимание наших Маколеев (если только нам суждено иметь Маколеев) и та минута, когда перед раздувшимся и раздутым, как бы официальным великаном предстали: с одной стороны, гусарский офицер, светский лев, из уст которого общество услыхало впервые неведомый ему прежде, беспощадный укор [9] , да темный малороссийский учитель с своей грозной комедией, на челе которой стояло эпиграфом: «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива»; а с другой стороны – такой же темный, недоучившийся студент, дерзнувший провозгласить, что у нас еще не было литературы, что Ломоносов не был поэтом, что не только Херасков и Петров, но и Державин и Дмитриев не могут нам служить образцами, что и новейшие великие люди ничего не сделали. Под совокупными усилиями этих трех, едва ли знакомых друг другу, деятелей рухнула не только та литературная школа, которую мы назвали ложно-величавою, но и многое другое, устарелое и недостойное, обратилось в развалины. Победа была решена скоро. В то же время умалилось и поблекло влияние самого Пушкина, того Пушкина, имя которого так было дорого самим нововводителям, которое они окружали такою полною любовью. Идеал, которому они служили – сознательно или бессознательно (Гоголь, как известно, до конца от него отчурался и отнекивался), – идеал этот не мог ужиться с пушкинским идеалом, назло им самим. Сила вещей сильнее всякой отдельной, личной силы – так же, как общее в нас сильнее наших собственных наклонностей. Время чистой поэзии прошло так же, как и время ложно-величавой фразы; наступило время критики, полемики, сатиры. Вместо слова «наступило» мы бы могли, вспомнив Фонвизина, Новикова, употребить слово «возвращалось». Подобные «возвратные» обороты бегущего вперед исторического колеса известны всем наблюдателям жизни народов. Общество, пораженное внезапным сознанием собственных недостатков, предчувствуя другие, еще более горькие разочарования в будущем – которые и сбылись [10] , – с жадностью обратило слух свой к новым голосам и принимало только то, что отвечало его новым потребностям. «Торквато Тассо» Кукольника, «Рука всевышнего» – исчезли, как мыльные пузыри; но и «Медным всадником» нельзя было любоваться в одно время с «Шинелью».