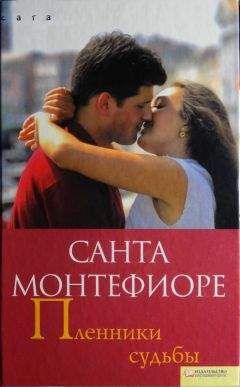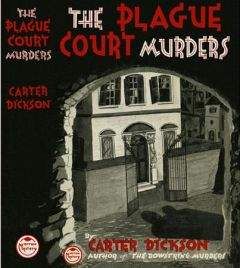Жорж Санд - Спиридион
Душа, подобно телу, имеет повседневные потребности; подобно ему, привыкает она удовлетворять эти потребности так, а не иначе. В бытность мою христианином и монахом я привык постоянно изливать в молитве любовь и восторг, переполнявшие мое сердце. Особенное блаженство доставляла мне вечерняя служба, во время которой я открывал Спасителю всю душу без остатка. В эту пору, когда день уже отошел, а ночь еще не опустилась на землю, когда своды храма освещает лишь дрожащий свет лампады, зажженной перед алтарем, а на еще бледном небосводе вспыхивают первые звезды, я обычно прерывал молитву и отдавался обуревавшим меня святым и сладостным чувствам. Место, где я молился, располагалось напротив высокого окна, узкий проем которого разрезал прозрачную синеву неба. Каждый вечер за окном зажигались три прекрасные звезды, которые, казалось, улыбались мне и озаряли мою душу лучом любви и надежды. Так вот: поэтическое чувство было во мне так тесно переплетено с чувством религиозным, а религиозное чувство так крепко связано с католической доктриной, что, перестав слепо подчиняться ей, я лишился всего – и поэзии, и молитв, и священного исступления, и пламенного вдохновения. Я сделался так же холоден, как те мраморные плиты, которые попирал ногами. Тщетно пытался я устремиться душою ввысь, к Творцу всего сущего. Прежде Он представал моему воображению в определенном облике, который теперь утратил; после того, как мысли мои сделались более возвышенны, а стремления – более грандиозны, разум мой явил мне Бога несравненно более могущественного и более совершенного, и этот новый Бог слепил мой взор; Его необъятность, равно как и безграничность сотворенного Им мира, напоминали мне о моем ничтожестве. Прежний облик, до какой-то степени доступный чувствам благодаря картинам и мистическим аллегориям, постепенно таял, уступая место бескрайнему Божьему лону, в котором я ощущал себя мельчайшим атомом, причем мысли мои не занимали в нем никакого места и не имели никакой цены, а Божество не снисходило до общения со мною иначе чем через посредство – посредство, можно сказать, роковое – жизни всеобщей. Итак, я больше не пытался сообщаться с Богом. Я был уверен, что этому исполину не пристало слушать меня; обращая к Нему свои мольбы или восторги, словно к земному царю, я боялся оскорбить Его небесное величие, боялся совершить поступок святотатственный. А между тем я по-прежнему ощущал потребность молиться, потребность любить и порой пытался смиренно и боязливо воззвать к этому грозному Божеству. Однако при этом я либо невольно возвращался к католическим оборотам и мыслям, либо произносил молитву собственного сочинения, столь странную и наивную, что сегодня она вызвала бы у меня улыбку, если бы не напоминала о невыносимых страданиях. « О Ты, – говорил я, – Ты, не имеющий имени и пребывающий в пределах недоступных! Ты, чересчур великий, чтобы слушать меня, чересчур далекий, чтобы меня услышать, чересчур совершенный, чтоб меня любить, чересчур сильный, чтобы обо мне пожалеть!.. Я взываю к Тебе, не надеясь на ответ, ибо знаю, что не должен ни о чем Тебя просить, знаю, что единственный способ заслужить Твое одобрение – жить и умереть в безвестности, не ведая ни гордыни, ни мятежа, ни гнева, страдать без жалоб, ждать без желаний, надеяться без притязаний…»
На этих словах я замолкал, устрашенный открывавшейся мне печальной участью рода человеческого, которую молитва моя, точно отражая мою мысль, изображала так коротко и безнадежно. Я спрашивал себя, как можно любить бесчувственного Бога, который влагает в душу человека влечение к небу, дабы тот ощутил весь ужас своего пленения и своей беспомощности; как можно любить Бога слепого и глухого, который гнушается даже повелевать молниями и так надежно прячется в золотом дожде своих светил и миров, что ни одно из этих светил, ни один из этих миров не могут похвастать тем, что видели или слышали Его. О, я куда охотнее имел бы дело с оракулом иудеев, с голосом, наставлявшим Моисея на горе Синайской; я охотнее имел бы дело со Святым Духом, воплотившимся в голубя, или с сыном Божьим, принявшим облик человека из плоти и крови, такого же, как я сам! Эти земные боги были внятны моему разумению. Ласковые ли, грозные ли, они слушали меня и мне отвечали. Гнев мстительного и сумрачного Иеговы страшил меня меньше, нежели бесстрастное молчание и ледянящая справедливость нового моего повелителя.
Вот когда в полной мере ощутил я всю пустоту, всю смутность той философии, имя которой – теизм; ведь, должен тебе признаться, именно в этой современной философии, вошедшей в большую моду, попытался я отыскать разгадку тех тайн, какие не сумел разгадать ни с помощью прочитанных книг, ни посредством напряженных раздумий. По всей вероятности, мне следовало воздержаться от знакомства с этой философией, ибо ничто не было так противно моему тогдашнему расположению духа, как она. Однако мог ли я это предвидеть? Разве не имел я оснований предположить, что самые передовые умы моего века сумели лучше меня извлечь выводы из всего, что успело изучить и пережить человечество? Мне этот опыт и эти знания были в новинку; мало кто из врачей смог бы предугадать, как сумеет мой организм переварить эту незнакомую ему пищу; между тем люди прилежные и простодушные, живущие вдали от света, имеют наивность искать в нашумевших писаниях своих современников средоточие премудрости и панацею от всех зол. Каково же было мое изумление, когда, готовый полюбить этих знаменитых французских авторов, навлекших на себя гнев Ватикана и оттого снискавших еще большую славу, я жадно открыл одно из тех дешевых изданий, какими Франция наводнила всю Европу, включая земли, пребывающие под властью самого папы, и какие свободно проникали даже под своды монастырей! Я не поверил своим глазам: так груба показалась мне критика, так слепа злость, так невежественны или легкомысленны рассуждения; я, однако, боялся, что судить беспристрастно мне мешают не полностью истребленные христианские предрассудки, и решил продолжить свое знакомство с литературой такого рода. По сути мнение мое не изменилось, однако довольно скоро я убедился в том, какую важную общественную роль играет критический и мятежный дух, готовящий крах инквизиции и освященного деспотизма всех родов. Постепенно привык я жить, видеть и чувствовать если и не точно таким же образом, как Вольтер и Дидро, то, во всяком случае, весьма сходно с их школой. Есть ли на свете человек, способный, пусть даже затворившись в монастыре, пусть даже ведя жизнь отшельническую, быть свободным от духа своего века? Привычки мои, симпатии и потребности отличались от тех, какими славились легкомысленные писатели моего поколения, однако те желания и стремления, какие еще сохранялись в моей душе, были бесплодны: я ощущал неизбежность и предначертанность великой философской, социальной и религиозной революции, но ни я, ни мой век не имели достаточно силы, чтобы отворить человечеству двери нового храма, в котором оно нашло бы прибежище от атеизма, холода и смерти.
Постепенно я и сам охладел настолько, что усомнился в собственных чувствах. Сомнения в доброте и отеческой любви Господа жили в моей душе уже давно, теперь же к ним прибавились сомнения в моей собственной сыновней любви к Господу. Я начал думать, что, возможно, привязан к Нему лишь по привычке, лишь благодаря данному мне воспитанию и что привязанность эта – вовсе не неотъемлемая принадлежность моей природы, а всего лишь одно из тысячи заблуждений, плод привычки либо предрассудка. Посему я стал истреблять в сердце своем дух милосердия с таким же тщанием, с каким прежде разжигал в нем небесный огонь. Глубочайшая скука охватила меня, и, подобно человеку, который не может жить, лишившись друга, я, лишившись предмета моей любви, чахнул и влачил свои дни в тоске.
Поглощенный этими тревогами и этими заботами, я едва заметил, как пролетели шесть лет. Шесть прекрасных лет, на которые пришлась моя зрелость, пали в бездну прошлого, а я не только не обрел ни счастья, ни добродетели, но даже не приблизился к ним. Юность моя растаяла, как сон. Любовь к учению, казалось, подавила во мне все прочие способности. Сердце мое дремало; не испытывай я порой при виде тех несправедливостей, жертвой которых становятся братья-монахи, и при мысли обо всех тех злодеяниях, которые творятся постоянно на нашей земле, приливов жгучего гнева и глубокого разочарования, я мог бы подумать, что во всем моем существе жив один только мозг, сердце же давно умерло. По правде говоря, обольщения, с которыми так мучительно сражались на моих глазах другие монахи, обошли меня стороной; можно сказать, что у меня вовсе не было юности. Покуда я был христианином, я любил только Бога; став философом, я не смог полюбить Божьи создания, не смог прилепиться душою к вещам земным.
Тебе, должно быть, хочется знать, Анжель, какое место среди новых моих привязанностей занимали память о Фульгенции и мысль о Спиридионе. Увы! Если вначале я поверил рассказам Фульгенция и собственным глазам, то теперь то и другое казалось мне всего лишь плодом воспаленного воображения, и я стыдился своей доверчивости. Современная философия обливала людей, верящих в призраки, таким презрением, что я не знал, куда деваться от мучительного воспоминания о собственной слабости. Такова гордыня человеческая: пусть даже внутренняя жизнь наша протекает в глубочайшей тайне, пусть даже о наших предрассудках и наших отречениях от прошлого не знает никто, кроме нашей собственной совести, все равно мы краснеем за свои заблуждения и желали бы скрыть их от самих себя. Я пытался забыть те чувства, какие испытал в пору душевной смуты, когда я пребывал в состоянии некоего исступления, когда во всем моем существе совершался переворот и жизненные силы, долгое время дремавшие в моем уме, вырывались наружу. Именно этими обстоятельствами объяснял я роль, сыгранную Фульгенцием и Эбронием в истории моего разрыва с христианством. Я уверял себя (и, возможно, не ошибался), что разрыв этот был неминуем; что он, так сказать, был мне написан на роду, ибо уму моему суждено было развиваться и идти вперед в любых условиях. Я говорил себе, что, не услышь я легенды об Эбронии, я нашел бы другой предлог для расставания с христианством, ибо я от рождения был обречен искать истину без отдыха и, возможно, без надежды. Изнемогая от усталости, впав в глубочайшее уныние, я, однако, с сомнением спрашивал себя, так ли радостен был утраченный мною покой. Простодушная вера моя осталась так далеко позади, сомнения же охватили меня так рано, что воспоминания о блаженстве неведения почти стерлись из моей памяти. Возможно даже, что этого блаженства я никогда и не знал. Для иных беспокойных умов бездействие есть пытка, а покой – оскорбление. Итак, оглядываясь назад, я не мог не испытывать к самому себе некоторого презрения. С тех пор как я взялся за нелегкий труд познания, я забыл, что такое счастье, но, по крайней мере, ощущал, что живу, и не стыдился того, что рожден на свет, ибо без устали трудился на ниве надежды. И если урожай оказался скуден, а почва бесплодна, виной тому была не моя лень, а бессилие рода человеческого.