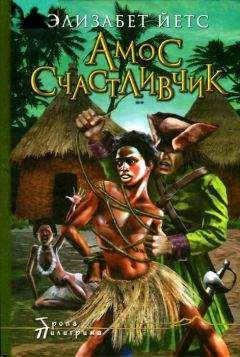Жозе Эса де Кейрош - Переписка Фрадике Мендеса
– Фрадике, почему бы тебе не описать это путешествие по Африке?
Я впервые подавал другу мысль написать книгу. Он посмотрел на меня с таким удивлением, словно я предлагал ему пройтись босиком в эту дождливую. ночь до парка Марли. Затем, бросив папиросу в огонь, он меланхолично пробормотал:
– Зачем?… Я не видел в Африке ничего такого, чего бы до меня не видели другие.
На мое возражение о том, что он взглянул на все, может быть, другими, более проницательными глазами; что не каждый день по Африке путешествует человек, получивший философское образование и много знающий; что в науке одна истина требует тысячи исследователей, – Фрадике ответил почти раздраженно:
– Нет! Ни об Африке, ни о чем бы то ни было у меня нет таких мыслей, которые изменили бы направление современной науки… Я мог бы только сообщить ряд впечатлений, пейзажей. Но это уже и совсем плохо! Потому что слово, в том виде, как мы – им владеем, пока бессильно воплотить малейшее умственное впечатление или даже воспроизвести очертания самого обыкновенного придорожного куста… Я не умею писать! Никто не умеет писать!
Смеясь, я запротестовал против этого обобщения, которое отметало все, без исключения и без пощады, и напомнил ему, что в нескольких ярдах от гревшего нас камина, в старом парижском квартале, где возвышаются Сорбонна, Французская Академия и Эколь Нормаль,[133] жили да и сейчас живут многие люди, которые в совершенстве владеют «прекрасным искусством слова».
– Кто же это такие? – воскликнул Фрадике.
Я начал с Боссюэ. Фрадике пожал плечами с таким яростным презрением, что я осекся. И затем коротко, резко, безапелляционно он заявил, что на протяжении двух лучших веков французской литературы, начиная с моего Боссюэ и кончая Бомарше, не было ни одного прозаика, чей слог обладал бы рельефностью, красочностью, силой, живым пульсом… Современники тоже никак его не удовлетворяли. Пафос и многословие Гюго так же невыносимы, как слюнявая дряблость Ламартина. Мишле недостает глубины и чувства меры; Ренану – основательности и энергии; Тэну плавности и прозрачности; Флоберу – жизни и тепла. Бедный Бальзак беспорядочно, варварски громоздит одно на другое. А манерность Гонкуров – просто неприлична…
Ошеломленный подобными оценками, я со смехом спросил этого свирепого критикана, какова же должна быть та идеальная, дивная проза, которая достойна быть написанной. И взволнованный Фрадике (ибо он не мог сохранять свое безмятежное хладнокровие, когда речь заходила о вопросах формы) сказал, вернее пробормотал следующее: «Проза должна быть кристальной, бархатной, струистой, мраморно-скульптурной, словом, такой, чтобы она сама по себе, благодаря своим пластическим качествам, воплощала бы идеал абсолютной красоты; а своей выразительной силой слово должно уметь воспроизводить все – от самых неуловимых переливов света до самых сложных состояний духа…»
– Короче, – воскликнул я, – это проза, какой не может быть!
– Нет! – закричал Фрадике, – это проза, какой еще. нет!
И он добавил в заключение:
– И так как ее еще нет, то не стоит писать. Мы можем создавать только формы, лишенные красоты; а они вмещают менее половины того, что мы хотели бы выразить, потому что остальное не может быть сведено к слову.
Во всем этом, пожалуй, было нечто надуманное и ребячливое; но слова его вскрывали причину, по которой столь незаурядный человек не стал литератором: им владело гордое стремление говорить лишь абсолютно верные истины и выражать их лишь в абсолютно прекрасных формах.
Именно поэтому, а вовсе не по южной лени, как намекает Альцест, Фрадике не оставил других следов своей гигантской мыслительной работы, кроме тех блесток, что в течение долгих лет он рассыпал, по примеру древнего мудреца, «в приятных вечерних беседах под платанами своего сада, и в письмах – тех же простых беседах с друзьями, когда их разделяли с ним волны»… Беседы эти пропали, развеялись по ветру: не было у Фрадике Мендеса своего восторженного и терпеливого Босвелла,[134] который следовал за старым доктором Джонсоном по городам и селам, насторожив свои оттопыренные уши и держа наготове карандаш, чтобы записать и увековечить всякое слово учителя. От Фрадике остались только письма – крохотные осколки золотого самородка, о котором говорит Альцест; но и в них присутствует блеск, высокая ценность и великолепие той редкостной золотой глыбы, от которой они были отколоты.
VIII
Если Фрадике подчинил всю свою жизнь столь твердому и неуклонному намерению избегать гласности и ничего не печатать, то не совершаю ли я теперь необдуманный и вероломный шаг, публикуя его письма и тем посмертно ввергая моего друга в шумную суету, от которой его всегда отвращала неподкупная честность перед самим собой? Этого можно было бы опасаться, если бы я не располагал неопровержимыми доказательствами того, что Фрадике безусловно одобрил бы план издания его переписки, подготовленного тщательно и любовно. В 1888 году, описывая ему свое романтическое путешествие по Бретани, я упомянул о книге, которую брал е собой в дорогу и читал с наслаждением – о «Переписке» Дудана,[135] одной из тех замкнутых натур, весь смысл существования которых в самосовершенствовании и поисках истины, а не в погоне за славой. Подобно Фрадике, Дудан запечатлел свою напряженную интеллектуальную жизнь только в переписке, благоговейно собранной после его смерти теми, кому он поверял свои мысли.
В ответном письме, посвященном всецело Пиренеям, где Фрадике провел лето, он добавил в постскриптуме: «Ты прав, переписку Дудана можно читать, и даже с интересом. Правда, в ней чувствуется некоторая духовная ограниченность: Дудан еще юношей ушел с головой в доктринерство Женевской школы, а затем, по причине болезни и одиночества, узнавал жизнь и людей только из книг. Во всяком случае, я читал эти письма, потому что читаю все вообще «Переписки». Не будучи задуманы с дидактической целью (и тем выгодно отличаясь от «Писем» Плиния), они представляют собой бесценный материал для изучения психологии и истории. Право, это прекрасный способ увековечить мысли человека: обнародовать его переписку! Я безоговорочно одобряю это! Опубликование писем уже само по себе имеет то громадное преимущество, что ценность их и, следовательно, отбор тех, которые должны остаться, определяется не их автором, а друзьями и критиками, которые свободны в своих суждениях и могут быть требовательны так как судят о человеке, которого уже нет в живых и которого они желают представить миру только с лучшей, самой выгодной стороны. Кроме того, в письмах ярче, чем в каком бы то ни было произведении, выявляется индивидуальность человека; а это неоценимо, особенно в отношении тех, чей характер был интереснее, чем их талант. И вот еще что: если литературное произведение не всегда обогащает запас знаний, накопленный человечеством, то «Переписка», неизбежно фиксируя привычки, чувствования, вкусы и образ мыслей современников, всегда вносит новую лепту в сокровищницу исторических сведений. Итак, письма человека – дышащий жизнью и огнем документ – более поучительны, чем его взгляды, безличное порождение ума. Философия – не более чем гипотеза, каких много. Исповедь же целой жизни позволяет нам видеть реальность человеческого существования, которая вместе с другими объективными сведениями расширяет наше знание Человека – единственного объекта, доступного нашему разуму. И, наконец, письма – это записанная болтовня (определение не помню уже какого классика), они не требуют священнодейственного облачения в форму прозы, какой еще нет… Но на этом пункте следовало бы остановиться подольше, а я слышу, что к крыльцу уже подают коня: я попытаюсь совершить экскурсию на Бигоррский пик[136]».
Помня об этом высказывании Фрадике, таком ясном и так подробно обоснованном, я решился, лишь только во мне стала успокаиваться скорбь об этом удивительном человеке и друге, собрать его письма, чтобы люди могли узнать и полюбить хоть частицу души, которую я успел так близко узнать и так преданно полюбить. Я посвятил этой работе целый год, потому что переписка стала самым любимым занятием Фрадике с 1880 года, когда «исследователь материков» перешел к спокойному, оседлому образу жизни. По объему и богатству его переписка напоминает эпистолярное наследие Цицерона, Вольтера, Прудона и других могучих тружеников мысли.
Даже по бумаге видно, что письма эти писались с удовольствием: передо мной листы отличного ватмана, белого и блестящего, по которому перо скользит так же легко, как голос разрезает воздух; они достаточно велики, чтобы на них поместилась самая сложная мысль во всем ее развитии; достаточно плотны, почти как пергамент, чтобы их не источило время. «С помощью Смита я установил, – пишет он Карлосу Майеру, – что каждое мое письмо, считая бумагу, конверт и марку, обходится мне в двести пятьдесят рейсов. Теперь тщеславно предположим, что в пятистах моих письмах содержится одна мысль, – отсюда следует, что каждая моя мысль стоит сто двадцать пять милрейсов. Этого простого подсчета достаточно, чтобы государство и экономный средний класс, который им управляет, с пылом начали кампанию за сокращение народного образования, доказав вполне неопровержимо, что курить дешевле, чем думать… Я сопоставляю мышление с курением, потому что – о Карлос! – это два идентичных процесса, состоящих в том, что мы пускаем по ветру небольшие облачка чего-то неуловимого».