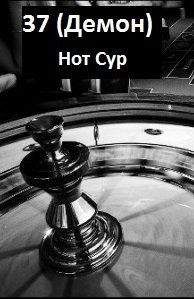Ариадна Сокольская - Марсель Карне
Отточенная галльская ирония комедии насквозь литературна. В ней ощущается изысканность филологического опыта. Превер жонглирует понятиями и словами, рассыпает их на составные части и действует, как фокусник, протаскивая сквозь ушко какого-нибудь каламбура рой ассоциаций. Герои фильма на лету подхватывают словесные мячи и тут же возвращают их партнеру. Комические ситуации «рифмуются». Стихия алогизмов внутренне организована. Юмор «Забавной драмы» не без оснований называли «ледяным».
Пародия умна, тонка, всеразрушающа и саркастична. Она напоминает те стихи Превера, в которых из словесной путаницы (типа «Старик золотой с часами в трауре. Кофейная змея с очковой мельницей. Пенковый маршал с отставной трубкой...»), из нагнетания случайных, ничем не связанных предметов и понятий возникает образ хаотического мира, потерявшего устойчивость и смысл. В «Забавной драме» логика абсурда, сдвиг обычного в нелепость служат той же цели.
Вначале кажется, что авторы высмеивают лишь приемы детективного романа. Но от штампов развлекательной литературы незаметно перекинут мост к штампам реальной жизни. Общепринятые формы полицейского допроса, публичной лекции, светской беседы, проповеди, объяснения в любви, ссоры воспитанных людей и перебранки грубиянов комически переосмыслены. Обычное и повседневное утрируется, превращаясь в фарс.
Каждая сцена начинается почти как в бытовой картине, а заканчивается гиньолем. Любой, казалось бы, невинный шаг, предпринятый героями, приводит к невообразимой путанице. Любое, самое глубокомысленное умозаключение оказывается бредовым.
Инспектор Брей, увидев в кухне Молинё длиннющий ряд бутылок с молоком (свидетельство любви молочника к прелестной Еве), тотчас изрекает: «Молоко — противоядие. Где есть противоядие, там есть и яд». Отсюда следует, что миссис Молинё отравлена цветочным ядом (поскольку ее муж ботаник).
Убийца мясников тоже вооружен солидной логикой. Он объясняет: «Я люблю овечек. Мясники их убивают. Я убиваю мясников»,— вывод, логически неотразимый. Но, увы, прямолинейная и замкнутая логика абсурдна. С нее-то, собственно, и начинается безумие. Мир методически организованный, расчисленный, мир правил — самый безрассудный. В нем все возможно. Он настолько выхолощен, что воспринимается как странный парадокс, как ирреальность.
Веселое в «Забавной драме» отдает печалью, смешное временами делается страшноватым. Ирония неумолимо проникает вглубь, затрагивая уже не только формы, но и суть житейских отношений. Хаотический дух улицы, ворвавшийся в размеренную жизнь почтенных буржуа, переворачивает все вверх дном. Благоразумные и респектабельные персонажи, оказавшись в необычной обстановке, теряют все свое благоразумие и совершают странные поступки. Светская дама в подозрительной гостинице китайского квартала ведет кокетливый любовный диалог с убийцей мясников. Епископ. с голыми коленями, в коротенькой шотландской юбочке крадется по чужому дому. Рыхлый, стареющий профессор прыгает по лестнице, как школьник, и распевает песенку про спящих голубков...
Зеркало пародии издевательски меняет лицо реальности. Привычный ход вещей оказывается непрочным. Стоит из механизма повседневности выпасть колесику, как все разваливается. Действительность становится похожей на фантасмагорию, на балаган.
На первый взгляд в «Забавной драме» нет ничего общего с «Женни». Там — быт и лирика. Здесь буффонада. То, что серьезно утверждалось и поэтизировалось в первом фильме, высмеяно во втором. Можно подумать, что создатели «Женин» в «Забавной драме» отрекаются от прежних увлечений, иронизируют над собственной серьезностью и объявляют о вступлении на новый путь.
А между тем это не так. Традиционные мотивы мелодрамы (любовь, разлука, ревность, смерть, грозящая героям) не исчезли. Они лишь потеряли драматизм. Чувства утратили значительность. Несчастья обратились в недоразумения.
Любовь получила шутливый, простодушно легкомысленный оттенок. Герой-любовник (Билли) стал веселым опереточным молочником. Его возлюбленная (Ева) из Прекрасной дамы превратилась в миловидную субретку. И все-таки лиризм любовных сцен, их идиллическая атмосфера, наконец, сам выбор героини, как всегда у Карне, задумчивой и несколько инертной, напоминают о романтике «Женни».
Вообще полярность этих фильмов скорее внешняя, жанровая. Сущность эстетической системы остается неизменной.
Образный мир Карне, так же как сложный, тяготеющий к контрастам мир стихов Превера, конструктивен и складывается из разнородных элементов. Уже в «Женни» соседствовали противоречивые художественные начала. Она была своего рода каталогом тем, настроений, стилистических приемов, которые в различных сочетаниях пройдут через все творчество Карне.
В «Забавной драме» превалирует эксцентрика. Фильм стилистически организован, «собран». Он кажется поставленным и сыгранным в одном ключе. Только внимательно всмотревшись, замечаешь, что художественная структура по-прежнему неоднородна. И основные ее элементы — те же, что в «Женни».
Самый нелепый персонаж комедии, убийца мясников — ближайший родственник таинственного Дромадера. Он так же ирреален, невесом, изысканно зловещ и педантичен. Странная маска, сочетавшая изящество балетной пантомимы с мрачностью гиньоля, оказалась вполне уместной в пародийном фильме. Барро в «Забавной драме» сохранил походку, жесты Дромадера, сухой и острый ритм движений, жутковатую геометричность линий. Строй образа почти не изменился. Но то, что в мелодраме было страшным, в комедии стало смешным.
Маска меланхоличного философа-убийцы больше не пугает. Безумие прямолинейной логики и фанатизма обернулось своей фарсовой, буффонной стороной.
В «Забавной драме» персонаж Барро «механизирован»: у него есть велосипед, с которым он не расстается ни в лекционном зале, ни в гостиной. Это залог его свободы, верное средство быть неуловимым и дурачить полицейских. И в то же время — некий символ действия.
Решительность, систематичность и последовательность — главные свойства грозного защитника овечек. Крампс исповедует анархию на редкость методично: его подчеркнутая упорядоченность всюду вносит беспорядок, неуважение к закону проявляется с маниакальным педантизмом.
Несложная житейская программа Крампса: «немного денег, время от времени мясник, немного солнца, немного любви»,— реализуется неукоснительно и строго. Увидев мясника, он его тотчас убивает (правда, за кадром). Увидев представительную даму, немедленно влюбляется и преподносит ей цветы.
Способ, каким добываются букеты, очень прост: слуга-китаец молча оглушает палкой запоздалых пьяниц и вынимает бутоньерки из петлиц. Механика прекрасно отработана. Пять-шесть прохожих — и цветы в руках у дамы, роман завязан (Крампс не терпит проволочек) . При этом выясняется, что всех красивых женщин он именует Дейзи — унификация полезна и в любви...
Бурлескный персонаж Барро в «Забавной драме» уже не казался чужеродным: тут, как в «дураческих» средневековых игрищах (соти′), жизнь представала вывернутой наизнанку. Подобно действующим лицам иронических старофранцузских пьес, Крампс олицетворял «дураческую» логику абсурда, «глупость, царящую над миром».
3
Игра Барро, с ее бравурной маскарадностью, была, в известном смысле, камертоном фильма. То, что в «Женни» ютилось на задворках, в «Забавной драме» - стало главным. Но не единственным.
Рядом с экстравагантными фигурами убийцы мясников, молочника и лунатического репортера, который все проблемы разрешал во сне, в картине существуют персонажи, близкие к реальным: супруги Молинё, епископ, Ева, глуповатый и нерасторопный инспектор Брей. Конечно, все характеры повернуты смешными сторонами. Однако в этих случаях житейская основа просвечивает сквозь комедийный стиль игры. Актеры лишь утрируют черты, подмеченные в жизни.
Об исполнении Луи Жуве писали много. Его епископ был величествен и лицемерен как Тартюф. Он обладал неподражаемой осанкой истого святоши, лицом фанатика и превосходным аппетитом. Тип был почти мольеровским, игра одновременно эксцентричной и реальной. Актеру удавалось примирить гротеск с тончайшей передачей настроений.
Сцену обеда до сих пор считают классикой актерского искусства. Ева вносила блюдо — и епископ в тот же миг впивался взглядом в утку. Его сосредоточенность могла бы показаться неприличной, если бы не изящное достоинство, с которым он накладывал в тарелку лучшие куски («О! Утка... Восхитительная утка с апельсинами... Крылышко... и затем... ножка...»). Таким же взглядом многоопытного гурмана он скользил по бюсту Евы — и зловеще спрашивал у Молинё: «А где же Маргарет?..» Ужасная догадка приводила его в радужное настроение. Он наслаждался своей проницательностью и смущением кузена не меньше, чем обедом. Характер раскрывался тут до мелочей.