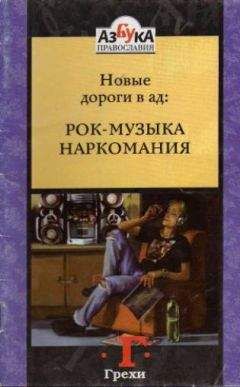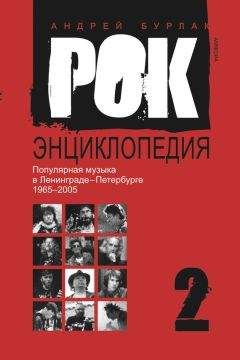Лев Рошаль - Дзига Вертов
Статика — это не нарастающая неподвижность (тогда бы это тоже была динамика, только со знаком минус), а неподвижность, не способная к нарастанию (или спаду).
Величие Эйзенштейна в том, что строй солдат у него все время двигался, но без какой бы то ни было смены темпа и ритма.
Ступал строй големов, обученных двум вещам: идти напролом и жать на спусковой крючок (пока, конечно, не встанет на пути грозная сила, но тогда строй рассыплется, а големы, охваченные начатками человеческих чувств, станут превращаться в людей).
Внутрикадровое движение солдат передавало внутричеловеческую неподвижность.
Внутрикадровая статика крупных планов людей, настигаемых пулями, передавала обратное — внутричеловеческую динамику, нарастание эмоций.
Сложнейшие в жизни пересечения статики и динамики в их неожиданных, нередко противоположных обличьях Эйзенштейн гениально прочувствовал у себя, и остается только пожалеть, что он не прочувствовал это у Вертова.
Критика, в том числе та, что восторженно встретила „Стачку“ и „Броненосец „Потемкин““, отмечала очевидное влияние на их документальную стилистику хроник киноков, „Кино-Правды“.
Эйзенштейн не отрицал, говорил, что „Броненосец „Потемкин““ воспринимается как хроника, а действует как драма.
Но он не был бы самим собой, если бы ограничился признанием.
Через признание он тут же шел к отрицанию: да, воспринимается как хроника, похожая на ту, что у Вертова, но действует-то как высокое драматическое искусство. В подтексте следовало понимать: у Вертова подобное воздействие просто невозможно, он ведь искусство отрицает.
Эйзенштейн и Вертов довольно уверенно полагали, что живут в творчестве на разных берегах, если и существует мост, то он постоянно разведен и вздыблен двумя половинами, как в фильме Эйзенштейна „Октябрь“ — внизу только свинец невских вод.
У подлинных художников на самом деле так не бывает, они могут двигаться разными берегами, но мост всегда наведен. В ажиотаже схватки спорщики часто даже не подозревают, что он существует, — все еще мечут громы и молнии, а между тем уже давно и не раз пожимали на мосту друг другу руки.
Сходство ряда элементов метода, идентичность способов построения отдельных сцеп никогда не означала прямых заимствований. Разные художники приходят к разному результату, но, оказывается, исходят нередко из одного и того же. Результат сохраняет всю полноту и обаяние индивидуальности, хотя и налицо сходство отдельных точек отсчета.
Оба периодически публиковали широковещательные объявления о том, что их разводит, а творчество и жизнь их периодически сводили.
С конца двадцатых годов Эйзенштейн начал разрабатывать теорию „обертонного монтажа“. Согласно этой теории на зрителя должно воздействовать не только движение основного содержания фильма, но и сопутствующие движению различные тона (пластические, световые, звуковые и т. д.) — помимо смыслового монтажа идет монтаж всевозможных ощущений, работающих на смысл. Эйзенштейн опирался на опыт музыки (там такие тона называют обертонами), в особенности на опыт двух композиторов: Дебюсси и — чаще всего — Скрябина.
Оказалось, что повышенный интерес к Скрябину был у обоих.
Разрабатывая теорию „зрительного обертона“, Эйзенштейн приходил далее к мысли, что он возможен „только в четырехмерном (три плюс время)“ пространстве и что по-настоящему оперировать этим измерением дает возможность лишь такое „превосходное орудие познания, как кинематограф“. В 1929 году он написал статью, она так и называлась „Четвертое измерение в кино“. В ней Эйзенштейн призывал перестать пугаться этой „бяки“ — четвертого измерения.
А в опубликованном в 1922 году манифесте „МЫ“ к тому же призывал, исходя из специфики кино, Вертов, причем призывал почтив тех же словах: „…в чистое поле, в пространство с четырьмя измерениями (3+время), в поиски своего материала, своего метра и ритма“.
Неожиданные точки соприкосновения возникали не только в каких-то теоретических посылках, но и в конкретных практических намерениях. Эйзенштейн хотел осуществить серию фильмов на общую тему — „К диктатуре!“. „Стачка“ была первой картиной, но так сложилось, что, как и „Кино-Глаз“, она оказалась в задуманной серии последней. Стремясь к предельно обобщенному, синтезированному охвату исторических эпох, Эйзенштейн замышлял экранизацию „Капитала“ Маркса. В упомянутой выше заявке на „Кино-Глаз“ Вертов говорил, что, являясь самостоятельной (как в смысле содержания, так и в смысле формального искания), картина в случае удачи этого опыта предназначается в качестве пролога к мировой картине „Пролетарии всех стран, соединяйтесь!“.
Трудно сказать, какими бы вышли эти фильмы, хотя не трудно угадать, что они были бы совершенно разными. Но масштабы замыслов, их направление — совпадали.
Эйзенштейн повторял, что „Стачка“ — это отнюдь не „Кино-Глаз“, а Вертов, соглашаясь, что „Стачка“ — не „Кино-Глаз“, а только игра в „Кино-Глаз“, утверждал в свою очередь, что „Кино-Глаз“ — это отнюдь не „Стачка“.
По многим свойствам картины были совершенно несхожими.
И все-таки жизнь не случайно находила основания для того, чтобы их ставить рядом.
Париж премирует советских режиссеров.
Согласно сообщению, полученному Академией Художественных Наук, на выставке декоративных искусств в Париже получили награды: режиссер МежрабпомРусь Я. А. Протазанов — почетный диплом (2-я награда), режиссер Госкино С. М. Эйзенштейн — золотую медаль (3-я награда), режиссер Пролеткино С. Д. Бассалыго — золотую медаль (3-я награда) и кинок Д. Вертов — серебряную медаль (4-я награда).
„Кино-газета“, 1925, 17 ноябряНовороссийск до востребования Вертову.
Поздравляю получением серебряной медали Кино-Глаз Парижской выставки много шума Пиши=Лиза.
На этом первом международном киносмотре — еще задолго до появления многих знаменитых фестивальных конкурсов — Эйзенштейн был удостоен медали за „Стачку“, Вертов — за „Кино-Глаз“.
После Парижской выставки картина Вертова стала известна в мире. Под ее влиянием элементы документалистики начали проникать в различные жанры искусства. Американский писатель Дос-Пассос написал роман, в котором вымышленное повествование периодически прерывали блоки документов — рекламные объявления, сообщения газет и т. п. Блоки открывались одним и тем же заголовком: „Кино-Глаз“.
Вертов видел: при всех своих недостатках лепта задевает зрителя, оставляет след в сознании.
Просчеты картины не поколебали основ вертовской позиции.
Но отсутствие сомнений в верности магистрального движения не означало, что в каждом конкретном случае Вертову было все заранее ясно. Скорее, наоборот: каждый раз приходилось начинать все сызнова.
Он выбрал путь для движения, а способы движения всякий раз зависели от многих обстоятельств и не могли быть шаблонными. Да и дорога не давала обязательств быть прямой и гладкой — где-то петляла, где-то легко скатывалась с пригорка, а где-то дыбилась крутым тяжким подъемом.
Понимание главного не исключало всевозможных проб и экспериментальных проверок.
Многое потом отметалось, но оставался опыт.
Он не давался даром.
Но и даром не проходил.
Отдельные, даже сами по себе верные критические замечания часто утопали в потоке поверхностных раздражительных оценок.
Болезненно, остро, иногда доходя до отчаяния (это видно по дневникам) Вертов переживал не критику, а непонимание — оно казалось порой фатальным.
На непонимание отвечал резко. Одновременно старался еще и еще раз объяснить свою позицию.
А на справедливую критику почти никогда не отвечал признанием впрямую просчетов и обещанием исправиться.
Между тем Вертов был человеком редкостной, может быть, даже беспрецедентной, восприимчивости к критике.
Среди людей искусства не просто найти другого человека, который бы с такой же внимательностью взвешивал всю без исключения сумму разнороднейших оценок, делая необходимые выводы.
— Говорят, что я не умею признаваться в ошибках, это верно, — говорил он на одном из киносовещаний в конце тридцатых годов. — Но я стараюсь исправлять свои ошибки на экране…
Эти слова не были просто словами.
На протяжении всего творчества каждый последующий фильм становился, с одной стороны, продолжением предыдущего, развивал его принципиальные липни, с другой — решительным отрицанием предыдущего: и того, что в нем оказалось бесплодным, и того, что было органичным для него, но не было обязательным для других, наконец, каждый новый фильм становился открытием неизведанного, того, чего прежде не было вообще.
Шло постоянное осмысление собственного опыта, оно опиралось в том числе и на трезвый учет всего пестрого конгломерата критических мнений.