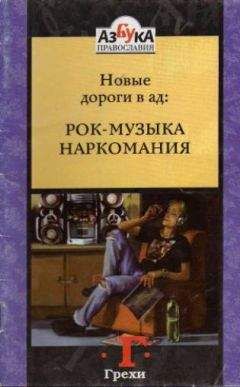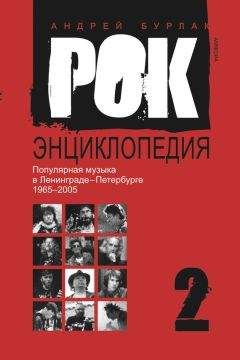Лев Рошаль - Дзига Вертов
Полемисты тоже критиковали (справедливо) крайности. Но, в отличие от «Правды», им казалось, что крайности и есть сердцевина его позиции, а все остальное — несущественные частности. Это и приводило в ярость, а она, как известно, советчик малограмотный. С ее помощью обоснованная нетерпимость к крайностям легко переходила в нетерпимость ко всему.
Ярость как таковая Вертова (во всяком случае, в молодые годы) не слишком беспокоила.
Но его беспокоило непонимание — не столько теоретических идей, сколько прежде всего практики.
Он хотел в этом разобраться, найти причины.
Вертов задумался.
И в конце концов пришел к выводу, что при всех изъянах «Кино-Правды» в непонимании ее он в общем и целом не виноват.
Установить это ему было необходимо: бессмысленно идти вперед с грузом вины; если груз есть, от него следует немедленно освободиться.
Вертов знал и другое: публика виноватой в общем и целом тоже не бывает. Она никогда не заполняет кинозалы с сознательным намерением не понять то, что должна увидеть, наоборот, она заполняет их обычно с прямо противоположным намерением.
Значит, для затрудненного в ряде случаев восприятия «Кино-Правды» существует какая-то объективная причина, лежащая вне его вины и вне ответственности публики.
Без всякой ярости, спокойно, с единственной целью достичь самого широкого понимания Вертов искал причину, пока сам не поставил диагноз.
«Я не сразу учел, что мои ругатели, воспитанные на литературе, не могут в силу привычки обойтись без литературной связи между сюжетами».
Несвязность сюжетов, их внутренняя неосмысленность — еще со времен старых журналов того же «Патэ-журнала» — была привычной, а потому попятной. В сознании зрителя она давно сложилась в единственно возможную форму существования журнального номера. Но стоило между разрозненными фактами установить действительные внутренние связи, причем установить не столько словесно, сколько зрительно, как начинало казаться в силу сложившихся стереотипов, что композиционно разрозненное представление о мире является более ясным и верным, чем сочлененное, синтезированное.
Самые интенсивные ругатели под свое непонимание стали подводить теоретическую базу. Послышались первые голоса, что киноки отступают от документа: сцепляя воедино различные по времени и месту факты, монтажно создают некую новую кинореальность, неадекватную реальности жизненной.
Одним из поводов послужил эпизод похорон из «Октябрьской Кино-Правды», особенно после того, как его описал сам Вертов в манифесте «Киноки. Переворот»: «…опускают в могилу гробы народных героев (снято в Астрахани в 1918 г.), засыпают могилу (Кронштадт, 1921 г.), салют пушек (Петроград, 1920 г.), вечная память, снимают шапки (Москва, 1922 г.)».
Разные события, а поданы как одно — разве это документальное кино, разве хроника?
Но Вертов уже тогда понимал: документальное кино не есть только хроника событий, а история времени не исчерпывается перечислением дат.
Вертов не сообщал о похоронах участников таких-то событий в таком-то городе такого-то числа.
Он говорил о похоронах Героев Революции, погибших на разных участках борьбы, их хоронил не Кронштадт, не Астрахань, не Петроград и не Москва.
Он хотел сказать, что своих героев хоронила — страна.
Тематически синтезируя факты, Вертов устремлен был к подлинной патетике.
Зрителю он доверял, справедливо считая, что по самому облику запечатленного зритель установит: факты — разные. Они не утрачивали на экране своей достоверной конкретности, не вводили в заблуждение. Но слитые вместе, разные по времени и географии, однако единые по теме, они поднимались до высот трагического.
Установив, что результаты его поисков на данном этапе части публики непонятны из-за того, что новы, Вертов не только не стал от новизны избавляться, а, наоборот, с еще большей настойчивостью принялся следовать избранным принципам целостного постижения мира.
Это не было твердолобым упрямством.
Вертов понимал, что сумеет вступить в безоговорочные контакты со зрителями тогда, когда в публике начнет крепнуть ощущение не столько новизны его методов, сколько их естественности.
А для этого публику надо было к ним приучить и самому неотступно продолжать поиски.
Даже непонятные (но верные в основе) монтажные сцепления, сложные смысловые ассоциации, раздражая непонимающих, тем не менее западали в их головы, начиная подтачивать, разрушать позиции, захваченные привычками, одновременно помогая самому Вертову находить путь к сложной простоте.
Он не стремился к новизне ради обязательного удивления зрителя. Но его не оставляла потребность постоянно решать в искусстве принципиально новые задачи.
В номерах «Кино-Правды», выпущенных после четырнадцатой, осторожность, оглядка и робость в овладении единством анализа и синтеза фактов сменяются все большей уверенностью.
И вот: еще только начинали сшибаться мнения по поводу девятнадцатой «Кино-Правды», а Вертов констатирует: на выпущенный полтора года назад (декабрь 1922 года) четырнадцатый номер, из-за которого группа киноков чуть не прекратила свое существование, теперь поступают повторные заказы. Он также констатирует, что экземпляры всех предшествующих выпусков оказались к тому времени настолько затрепанными на бесчисленных показах, что теперь их уже невозможно посмотреть.
По разным причинам не все удавалось в частностях.
Но не было сомнений в истинности магистрального движения.
Сомнений в истинности магистрального движения у Вертова не было не только при создании журнальных номеров, но первого большого фильма «Кино-Глаз» («Жизнь врасплох»), выпущенного параллельно с «Кино-Правдами» в 1924 году.
Развивая найденное в журналах на гораздо большем метражном пространстве и одновременно еще раз проверяя себя, Вертов ставил в фильме сразу множество задач.
Прежде всего он хотел реализовать на деле теоретически провозглашенный им тезис о неизмеримо больших возможностях Кино-Глаза по сравнению с обычным человеческим зрением.
Чтобы открыть скрытое, киноки должны были быть постоянно начеку и успевать вовремя.
Для съемок «врасплох» часто использовался специальный автомобиль с камерой и постоянно дежурившим оператором, он немедленно выезжал по вызову кинонаблюдателя.
Приехав со съемок из подмосковной деревни на один из московских вокзалов в шесть утра, киноки не разбежались по домам досыпать.
Увидев, как из вагона вывели слона, предназначенного для зоосада, они тут же «расчехлили» камеру и отправились вслед за неторопливым гигантом по ранним, только просыпающимся городским улицам (в фильме кадр прогуливающегося слона сопровождался лаконичной надписью — «350 пудов»).
Исходя из поставленных задач, въедливая камера Кауфмана искала не собственно факты, а внутренние мотивы разнообразных жизненных проявлений. Киноки сняли двух пионеров по прозвищу Цыганенок и Копчушка, с блокнотами в руках они обследовали рынок, проходя сквозь строй торговых рядов, а камера прочитала в провожавших их глазах мясников насмешку, презрение, подавляемое беспокойство.
Фиксируя быт, Кино-Глаз вскрывал его противоречия.
Камера спускалась на «дно жизни»: беспризорники, воришка-кокаинист, убитый служащий пивной Моссельпрома, болезни — наследие старого — туберкулез, сумасшествие (один не может избавиться от галлюцинации погрома, другому мерещится полицеймейстер), сутолока Сухаревки, Ермаковка, валютчики и налетчики, «темное дело»…
А рядом — другая жизнь, иной мир: пионерский клуб, пионерский лагерь — его строят московские пионеры вместе с сельскими (кадры, оставшиеся от монтажа этих эпизодов, вошли в «Пионерскую Кино-Правду»), пионеры участвуют в крестьянских работах, а потом весело брызгаются в реке и прыгают в воду с вышки, открытие лагеря и подъем пионерского флага.
Рыночной стихии противостоит кооперативная торговля, Цыганенок и Копчушка, обследовав цены, вывешивают плакат с призывом вступать в кооператив.
Идет борьба с туберкулезом, пивную Моссельпрома с ее хмельной монотонной гулянкой, с усталой гармонью обходят пионеры, собирающие в металлические кружки пожертвования на борьбу с болезнями и предъявляющие пьяницам «наш ультиматум».
Многим вещам Кино-глаз зрительно возвращал изначальность. Куски мяса на прилавках, проходя в обратной последовательности все стадии, превращались в тушу, затем в ожившего быка, бык попадал из предубойной камеры в вагоны, а оттуда опять в стадо.
То же происходило с хлебными караваями, они превращались в тесто, потом в муку, потом в колосящееся поле.
Взгляд Кино-Глаза был пытливо-сосредоточенным, по никогда не становился насупленно-скучным.
С каждым сделанным шагом он все больше ощущал свои возможности и, как молодой крепыш, наливающийся богатырскими соками, мог себе позволить от избытка силушки пошалить, повольничать.