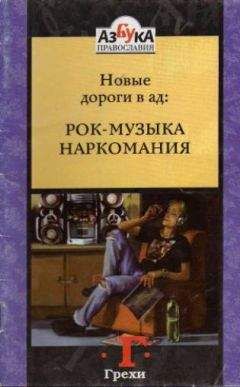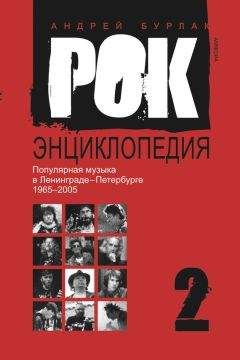Лев Рошаль - Дзига Вертов
Вертов хотел с помощью кинокамеры не смотреть на жизнь, а рассматривать ее.
Не глазеть по сторонам, а разглядывать окружающий мир.
Он высоко ценил оптико-механические свойства киноаппарата, его способность остро всматриваться в жизнь и так много говорил об этом, что многим стало казаться, будто практическое осуществление теоретических посылок Вертова ограничивается лишь демонстрацией возможностей съемочной техники — показом на экране разрозненных, осмысленно не организованных жизненных мгновений, рас-считанных пусть иногда и на сильное, но в общем и целом мимолетное впечатление.
К тому же Вертов призывал снимать жизнь как она есть, без какого-либо вмешательства в протекающие перед камерой события, без предварительной организации съемки, без сценария, из чего легко было заключить, что в орбиту съемки попадет все, что бог на душу положит. Подзаголовком большого и во многом программного фильма, который вскоре выпустит Вертов, он имел неосторожность поставить: «Жизнь врасплох».
Вертов многому учился, но вот еще одна вещь, которой он таки не выучился, — осторожности.
Подзаголовок вызвал удовлетворение оппонентов Вертова: он как бы лишний раз подтверждал, что Вертов ничем другим не интересуется, кроме фиксации врасплох захваченных кинокамерой мгновений (хотя на самом деле этим подзаголовком он подчеркивал лишь необходимость съемки жизни в разнообразии естественных, лишенных преднамеренности и позы проявлений, и ничего больше).
Все это и дало повод Эйзенштейну (и не только ему) для упрека в «импрессионизме».
Считая, что Вертов ограничивается только фиксированием явлений, «бесстрастным изобразительством», созерцанием и не ставит задачу продуманного воздействия на зрителя, Эйзенштейн свою статью «К вопросу о материалистическом подходе к форме» закончил словами:
— Не «Кипоглаз» нужен, а «Кинокулак».
Под «кулаком» подразумевалось ударное воздействие на эмоции и сознание зрителя во имя утверждения новых революционных идей.
Вертов упрека не принял.
Его стремление к анализу действительности уже на стадии съемки ясно обозначало связь кинофиксации с идейным, агитационным, мыслительным процессом. Анализ есть действие сознательное и целеустремленное.
В мае 1926 года Вертовым были написаны замечания к рукописи статьи кинокритика Хрисанфа Херсонского, не раз выступавшего в двадцатые годы в поддержку вертовских поисков. В замечаниях Вертов, в частности, писал:
«Не советую Вам повторять грубейшую ошибку Эйзенштейна и делать подразделение между „видеть и показывать“ и „убедить и доказать“.
„Кино-Глаз“ — это значит „убедить и доказать“ способом „увидеть и показать“.
Художественная драма — это значит „убедить и доказать“ способом „выдумать и показать“.
„Стачка“ относится к последнему виду».
Законченной объективности этих формулировок вредит только одно — слышимая нотка иронии по отношению к слову «выдумать».
В остальном Вертов оказался совершенно точным.
Если Эйзенштейн отказал вертовскому методу в стремлении «убедить и доказать», то Вертов методу Эйзенштейна не отказал, ясно определив существо того и другого способа убеждения и доказательства.
Здесь Вертов был более справедлив и четок, чем Эйзенштейн.
Эйзенштейновский упрек не исчерпал себя и спустя пятьдесят лет.
В 1976 году вышел сборник «Дзига Вертов в воспоминаниях современников», его открывала статья Михаила Блеймана «История одной мечты», помещенная в сборнике «вместо предисловия».
Статья занимает свое почетное место по праву, ибо если не в понимании Вертова, то в общем отношении к нему в ней сделан шаг вперед.
Дело не только в признании, что многие так называемые «ошибки» Вертова на самом деле часто были ошибками не Вертова, а его критиков, плохо разобравшихся что к чему, хотя когда-то позиции критиков выглядели непробиваемыми.
Но в статье Блейман почти дословно повторял эйзенштейновскую мысль, утверждая, что Вертову казалось, будто содержание документальной картины «формирует демонстрация возможностей „киноглаза“».
«Это оказалось не так, — писал далее Блейман, — но ошибочное представление привело Вертова к открытиям новых возможностей съемки, таких, о которых до него и не подозревали».
На самом деле Вертову никак не могло казаться, что содержание фильма исчерпывается демонстрацией возможностей съемки, поскольку он эти возможности всегда и везде рассматривал только как средства, следовательно, они никогда и нигде не имели случая превратиться в цель.
Цель у Вертова была иная.
Поэтому и открытия новых возможностей съемки не были рождены ошибочными представлениями.
Они выросли из вполне безошибочного понимания преимуществ кинематографической фиксации, преимуществ «Кино-Глаза» перед человеческим глазом.
Но своеобразие вертовской теории состояло в том, что даже из этой формулы человеческий глаз вовсе не исключался.
Наоборот, он полноправно в ней присутствует.
Большинство на это не обращало внимания, считая, что «Кино-Глаз» есть синоним «кинообъектива», «кинокамеры», а вся вертовская теория выражает раболепие перед съемочной техникой, преувеличенно фетишизирует ее.
В первом томе «Кинословаря», вышедшем в 1966 году, в статье «Киноведение» ее автор, историк и теоретик кино Семен Гинзбург, отдавая дань теоретическим исканиям Вертова, писал: «Утверждая, что киноаппарат — „киноглаз“ — много совершеннее человеческого глаза, Вертов разрабатывал особые возможности кинонаблюдения».
Между киноаппаратом и Кино-Глазом здесь просто поставлен знак равенства.
Мысль не новая, она хорошо погуляла еще по страницам прессы двадцатых годов.
Не оставшийся безразличным к ней Эйзенштейн думал, что своим «Кинокулаком» наносит прямой удар в «Кино-Глаз», но на самом деле «Глаза» он даже не задел.
Как и многие другие, он просто его не замечал.
В вертовской формуле «Глаз» казался лишь подневольным придатком «Кино».
Поэтому удар был нанесен туда, куда Эйзенштейн, кинематографист до мозга костей, нанести хотел бы, наверное, меньше всего, — в первую половину формулы, то есть в «Кино».
В отличие от вертовских рукописей, в печатных изданиях двадцатых годов «Кино-Глаз» писался то с прописной (или прописных) буквы, то со строчной, то через дефис, то, чаще всего, слитно, а начиная с тридцатых годов в соответствии с установившимся грамматическим правилом пишется без прописных и слитно — как одно слово.
Видимо, это обстоятельство тоже каким-то психологическим образом повлияло на распространение уверенности, что вторая часть формулы лишена известной самостоятельности и слитно подчинена первой.
Они у Вертова действительно сливались, по как два равносильных, взаимодополняющих потока.
Высоко оценивая то, что относится собственно к технике «Кино», он не хотел ограничиваться только техникой.
Не хотел сводить все только к съемке.
Ведь само слово «съемка» характеризует некое внешнее, поверхностное действие. Снимают одежду, кожуру с апельсина, снимают накипь, стружку и т. д.
А за всем этим есть нечто более глубокое. То, что увидеть с помощью одной только съемки трудно, порой невозможно.
Нужна съемка, помноженная на работу, адекватную тем процессам, которые совершаются в сознании с помощью глаза.
Со школьной скамьи известно, что глаз, как и объектив, является оптическим прибором: тоже пропускает через себя световые волны, только в кино они проецируются на пленку, а здесь на сетчатку.
Но дальше начинаются важнейшие отличия. В кино оптико-механические возможности, в сущности, исчерпываются фиксацией. А в оптико-человеческих процессах световые волны, пройдя через глаз и спроецировавшись на сетчатку, только начинают свою работу.
Разрастаясь и детонируя, волны посылают импульсы в мозг и сердце, и совершается отбор, анализ, целеустремленное исследование, обобщение увиденного.
К оптико-механическим свойствам «Кино» Вертов не мог не присовокупить важнейшие человеческие качества, подразумевая под словом «Глаз» не столько возможности зрения, сколько возможности мышления, опирающегося на зрение.
В цепи мыслительного процесса зрение, рассматривание становилось первым побудительным звеном.
В 1966 году вышла в свет книга[5], в которой исследователь творчества Вертова Сергей Дробашенко собрал его статьи, заметки, дневниковые записи (многое публиковалось впервые).
Эта книга с предпосланной ей вступительной статьей составителя, где были проанализированы основные направления теории Вертова, насыщена важным (а с обыкновенной, читательской точки зрении — необычайно интересным) материалом, помогающим понять идейные творческие, нравственные позиции художника, осмыслить его судьбу.