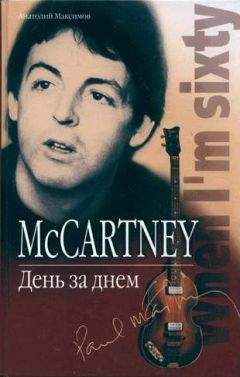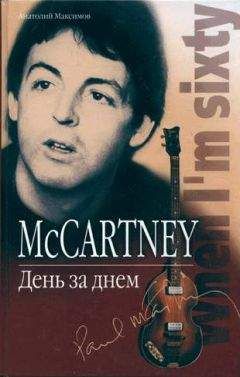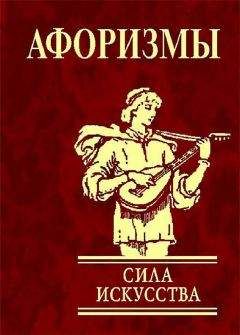Всеволод Соловьев - Две жертвы
— Петровна! — наконец, отчаянным голосом крикнула Ганнуся. — Так что же это ты мне не рассказала всех этих ужасов, когда я приехала? как могла ты это скрывать от меня?
Старуха задрожала и повалилась в ноги перед нею.
— Матушка, горемычная моя, чувствую я всю мою вину перед тобою. Грех, тяжкий грех взяла на душу, и все деточек неповинных жалеючи и ее, графинюшку, жалеючи! Ведь, он что мне сказал, я сдуру-то тогда в ноги ему кинулась, молила его. А он мне в ответ: «Нишкни, говорит, старая! Коли слово единое от тебя еще услышу, коли ты кому ни на есть заикнешься про что, — так, право, я, право, всех этих щенят передавлю». И вот, как перед Истинным, мог он, мог это сделать!
— Господи! — простонала Ганнуся. — Да за что же мне все это? За что так надругались надо мною? За что погубили?
— Матушка, болезная моя, — шептала Петровна, — и меня-то ты истомила. Как приехала ты тогда, думаю: какую он еще там привез… и взглянуть-то на тебя не хотелось за графинюшку. А как глянула — вижу ты ровно дитя — добрая да ласковая, ко всем приветливая. Смехом заливаешься, деточек ласкаешь, на него так смотришь любовно, думаешь на жизнь счастливую да радостную приехала. Так и упало мое сердце, сказать ничего не смею. Графиней, графиней тебя величают, я то знаю, что графинюшка наша в подвале за замками, ты… какая же ты графиня?! — ты полюбовница его, разбойника, не графиня…
Ганнуся дико вскрикнула и онемела.
Петровна сказала правду. Но, несмотря на весь ужас этих нежданных открытий, на известие о том, что первая жена графа жива, до этого мгновения Ганнуся все же не думала об этой ужасной правде.
— Нет, нет! — задыхаясь выговорила она, наконец, отчаянно протягивая руки и будто что-то от себя отстраняя, — Нет, я все же жена его, повенчанная, законная жена, нас в церкви венчали… я жена его!..
— Да от живой жены разве венчают? — а коли обманно повенчают, так все одно, что и не было этого венчанья, — тихо проговорила Петровна.
Ганнуся упала на скамью в полном бессилии. Теперь она уже ясно понимала, что у нее отнято все, и ничего ей не осталось, что даже ребенок ее несчастный — незаконное дитя, без прав, без имени. Она схватилась за голову, будто стараясь припомнить что-то, что то сообразить, но ничего не могла придумать: голова ее была пуста — ни одной мысли! Тупое отчаяние охватило ее, а сердце — то билось с такой никогда неизведанной болью, то вдруг замирало, будто совсем останавливаясь. Всю грудь ее жгло, как огнем, и в то же время ей было холодно, нестерпимо холодно.
— Где же она? Веди меня к ней! Покажи мне ее… графиню! — прошептала, наконец, Ганнуся.
— За замками в подвале бедная графинюшка, и не видит она света Божьего, не слышит она голоса человеческого. Молила я его, изверга, дозволить мне носить ей пищу, — долго не соглашался, почитай полгода не видала я ее. Опять кинулась просить его — дозволил, только клятву страшную взял с меня, да наказал одному из своих разбойников провожать меня, чтобы я не засиживалась. И минуточки не дают побыть с нею. Да что — вот уж теперича она, бедная, почитай что и не узнает меня, и на человека почти непохожа стала — разума лишилась…
— Веди меня к ней, я должна ее видеть! — хватая за плечи старуху, безумно повторяла Ганнуся. — Веди меня к ней! Пока сама не увижу, не поверю тебе, не может того быть, нет, она умерла, все про то знают!
— Все про то знают! А те, кто связанную ее, по рукам да по ногам, да с платком во рту, чтобы не кричала, понесли в подвал — те-то, небось, знают жива ли она или нет. А те, кто, прости Господи, в гроб-то вместо покойницы дохлую, смердящую собаку укладывали, те тоже, небось, знают, кого в том гробу похоронили!
— Веди меня к ней! — твердила Ганнуся. — Не верю, лжешь ты, старуха!
— И проведу, матушка, — проговорила Петровна. — Уж теперь чего же мне — проведу, и пусть он, злодей, казнит всех нас. Да, нет, сударушка, сдержи ты свое сердце, о Боге подумай, о младенце своем подумай; пожалей ты, коли себя не жалеешь, и ту безвинную душу, что в подвале за замками спрятана. Проведу я тебя тихомолком — крепись только, улучу время как одна пойду без разбойника, что за мною ходить приставлен, благо ленив он ныне стал, иной раз меня и одну отпускает. Погляди на нее, да удержи свое сердце, ободрись, сударушка…
И то, что Петровна не успела договорить, было уже ясно для Ганнуси. Внезапная решимость охватила ее, она вдруг позабыла все свои муки, весь ужас своего положения. Она поднялась со скамьи.
— Веди меня… погляжу на нее я… А потом, Петровна, если только не солгала ты, я должна вырваться отсюда, я убегу, я доберусь до города, я все раскрою… найду суд и правду!..
— Матушка, родная, дай-то Господи!.. Крепись только… А на заре выйди сюда опять на это же место, пожди меня… Может, я и устрою. На заре я пищу-то ей ношу, пожди меня тут до солнечного восхода. Не приду я — знай — тогда ждать надо.
С этими словами Петровна исчезла.
Ганнуся пошла домой. И уже не шаталась она со стороны в сторону, не чувствовала слабости, не чувствовала боли в сердце. Она думала только о своем решении, и в этом решении почерпала силу. Глядя на нее теперь, на ее спокойное застывшее лицо, никто не мог подумать, какие страшные минуты пережила она. Только в ней не осталось ничего от прежней Ганнуси; муж не узнал бы ее, если б встретил, но его не было дома, он еще не возвращался.
XIII
Темно и тихо; только издалека едва слышно доносится не то плеск, не то шорох; то волны донские ударяются о берег и рассыпаются белой пеной. Это почти единственный, но за то вечный, неизменный звук, который, то усиливаясь, то почти замирая, достигает до темного подземелья.
В яркий солнечный день в подземелье проникает слабый луч света из маленького оконца. Но прежде, чем дойти сюда, луч этот должен совершить большой путь: он спускается по цилиндрическому отверстию, проделанному в массивной каменной стене. Не будь этого отверстия — подземелье потонуло бы во мраке и в нем можно было бы задохнуться от почти полного отсутствия воздуха. И теперь здесь душно и сыро…
Темно и тихо… Но вот, в углу что-то шевельнулось; поднялась с легким стоном человеческая фигура и опять опустилась на свое ложе. И снова все тихо.
Но если осветить подземелье, изумленным глазам представится странная картина: в углу, у сырой стены, поставлена железная кровать, на кровати перина, подушки, шелковое стеганное одеяло; рядом, на широком кресле, брошена меховая женская шуба; стол, кувшин с водою, потом еще другое кресло, коврик у кровати. И все эти вещи — роскошные, дорогие, вынесенные из богатых верхних покоев; но в каком они виде?! Все запылено, загрязнено, белье давным-давно не переменялось на кровати. И на этом грязном белье лежит, вытянувшись своими иссохшими членами, существо человеческое, женщина, одетая в какое-то подобие когда-то богатого шелкового платья, от которого остались теперь только одни лохмотья. Длинные русые волосы не чесаны, не заплетены в косы, беспорядочно разметались по грязной подушке. Лицо женщины, зеленовато-бледное, осунулось, и трудно в нем уже заметить следы прежней, недавней красоты и молодости.
А между тем, года три тому назад, эта женщина была молодой красавицей, сильной и здоровой, у которой во всю щеку играл румянец, прекрасные глаза которой светились умом и добротою…
Эта женщина — похороненная торжественным образом, всеми позабытая графиня Девиер.
Не солгала Петровна. Она жива, если только можно назвать жизнью ее теперешнее существование. Она жива, хотя смерть давно борется с ее крепкой, здоровой натурой: победа смерти, может быть, уже близка, но все же еще не совершилась.
Сколько раз несчастная графиня звала смерть; сколько раз молила Бога сжалиться над нею и послать ей успокоение. Но теперь уже давно она перестала молиться и звать смерть. Давно она проводит дни и ночи без мыслей, без чувств, без всякого сознания.
Редко приходит она в себя; тогда все снова проясняется перед нею, снова отчаяние охватывает ее и она бьется о каменные стены своей темницы, рыдает и проклинает… Но проклятья скоро смолкают, она делает над собою страшное усилие, начинает молиться и незаметно, среди этой молитвы, нападает на нее забытье. И опять она ходит, не замечая окружающего, садится или ложится и говорит сама с собою, а о чем, того не знает.
Она чувствует только холод и голод. Когда ей холодно, она надевает свою шубу; когда голодна, слушает, чутко прислушивается… и вот раздаются шаги, глухо повторяясь по коридорам… ближе, ближе… щелкает замок, со скрипом отворяется дверь, входит Петровна, приносит ей пищу. Она ест жадно и поспешно, а потом, насытясь, или ложится и засыпает, или говорит опять сама с собою и уж не замечает присутствия Петровны, не слышит ее вопросов, не понимает ее, не видит, как Петровна иной раз переменяет белье на ее кровати, как иной раз своими дрожащими, старческими руками причесывает ей голову.