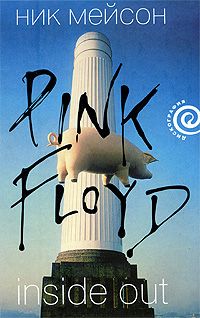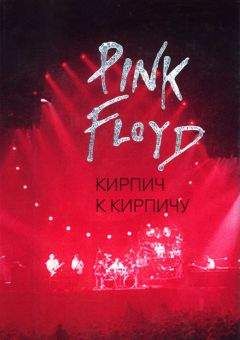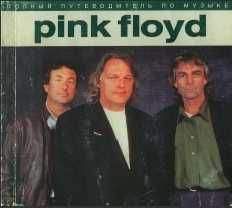Жак Казот - INFERNALIANA. Французская готическая проза XVIII–XIX веков
— Что поделаешь, — продолжал Сольбёский, обнимая меня. — Всему вокруг нас предстоит умереть, и раньше других — старикам, и нам тоже, если мы не найдем себе преждевременной и почетной гибели. Возвращайся в Кодроипо, брат мой, или отправляйся в Torre Maladetta вместе со мной. Может случиться большое несчастье, если мы сегодня к вечеру не проникнем во все тайны башни. Среди них, быть может, есть и такие, от которых зависит судьба наших друзей и, больше того, всего человечества.
Разговаривая подобным образом, мы незаметно дошли до гладкого и слегка наклонного берега, уже освещенного утренней зарей. Вместо ответа Сольбёскому я вскочил в лодку.
— Вперед! — закричал перевозчик. — Вечером переправа будет нешуточной. Синьор Марио был бы и посейчас жив, если бы переправлялся, как вы, благородные синьоры мои, ранним утром, пока солнце не успело еще растопить снег в горах. Это время года — до чего же оно опасно для путника! Но разве он думал об этом? Ведь он без труда свернул бы шею самому дьяволу, посмей тот встретиться с ним на земле. Но этого у дьявола и в помыслах не было, он заманил его к себе и погубил, на горе беднякам здешней округи. Смотрите, смотрите, течение и сейчас уже бешеное! Эти большие гребни — дурное предзнаменование на вечер. Вперед, перевозчик, вперед!
И он запел. Волны и в самом деле начинали вскипать возле весел пушистыми хлопьями пены. Тучи на небе заметно редели, и, когда мы выбрались из стремнины и попали в спокойные воды, солнце уже весело сверкало на их поверхности и рассыпало пред нами широкие косоугольники темно-зеленого цвета со вкрапленными в них дрожащими золотисто-желтыми жилками. Несколько морских птиц, долетающих сюда во время половодья, носясь над водой, касались ее своими крыльями.
Перед нами открылось унылое и суровое место причала; освещаемое горизонтально падающими лучами, которые как бы с усилием добирались до противоположного берега, оно казалось бесконечно далеким. Сольбёский, истомленный бессонною ночью, мирно заснул, сидя против меня, и я наслаждался один созерцанием этого зрелища, как вдруг предо мною предстала совершенно другая картина.
Лодка внезапно сделала крутой поворот и направилась к той части берега, на которую я до этого не смотрел. Здесь горизонт был закрыт огромной скалою кубической формы, увенчанной высокою башней. Ее разрушенная вершина склонялась набок, как голова раненного насмерть гиганта. Толстые стены, некогда служившие ей опорою и тоже не пощаженные временем, молниями и пушками, держались на немногих уцелевших камнях неправильной формы и уходили в обе стороны, как усталые руки, огромные кисти которых покоятся на обрывистых склонах горы. Но что больше всего поразило меня, так это то, что круглый балкон — все, что осталось от существовавшей когда-то вокруг башни платформы, — повисший над бездною, казалось, был пристроен к этому обиталищу ужаса в годы мира и радости. Находясь теперь достаточно близко от замка, я имел возможность разглядеть все эти подробности и понять, что как постройки, так и самое основание, на котором они были воздвигнуты, при сколько-нибудь значительных подъемах воды в Тальяменте бывают отрезаны от внешнего мира. Мы вышли на берег и оказались не более чем в двадцати туазах от лестницы, ступени которой, высеченные в скале, вели в замок. Высадив нас, лодочник поторопился пуститься в обратный путь.
Прибрежная полоса представляла собою беспорядочное нагромождение валунов овальной и круглой формы, почерневших на протяжении долгих веков под переменным действием воздуха и воды; многие из этих камней были покрыты отвратительными пятнами мха кроваво-красного цвета. Ноги с трудом находили точку опоры. Дороги не было, ее некому было здесь прокладывать, ибо страх перед внезапными набегами Тальяменте, время от времени заливавшего это узкое пространство между рекой и горой, не так гнал отсюда прибрежных жителей, как старинные, исполненные всяких ужасов предания. Слуга Сольбёского, которому был поручен наш тощий багаж, пробирался за нами с выражением застывшего на лице испуга, и даже Пук, вопреки обыкновению, не бежал впереди, а плелся сзади и глухо ворчал. Сольбёский упорно хранил молчание, и я подумал, что он все еще не пришел в себя после утреннего сна в лодке, вознаградившего его за многие дни хлопот и волнений.
— Куда мы идем, брат мой? — спросил я, беря его под руку, чтобы облегчить нам обоим дорогу.
— Ты спрашиваешь, куда мы идем, — ответил он, обратив на меня потускневший и грустный взгляд: им, по-видимому, владели те же чувства, что мной. — Куда мы идем? Мы идем в Torre Maladetta, и Torre Maladetta — вот она!
Эпизод третий
Torre Maladetta, или голод
С того времени, как доктор приобрел Torre Maladetta, в этой башне поселился один из его управителей, которого мне приходилось видеть в Триесте. Это был человек небольшого роста и небольшого ума, сильно припадавший на правую ногу и обнаруживавший самые крайние политические взгляды — что является непременным свойством глупцов; бесконечно трусливый на деле, он был, однако, несколько более ловок, чем позволяли предполагать его умственные способности, в области практической жизни. Мне не представится больше случая уделить ему хотя бы несколько слов; достаточно сказать, что звали его Бартолотти. Когда мы прибыли в замок, Бартолотти там не оказалось. Три дня назад его выгнал оттуда страх.
— Страх, синьора Барбарина, — обратился Сольбёский к старой, бессменной привратнице, услышав из ее уст эту новость. — Страх, говорите вы! Какой же страх можно испытывать в башне, кроме страха оказаться в один прекрасный день погребенным под ее рухнувшими камнями? Но ведь падение угрожает ей уже целую вечность, и столько поколений мирно почивало под ее кровом, что она будет стоять, надо надеяться, еще и еще, по крайней мере, на протяжении нашей жизни.
— Тут дело не так-то уж просто, — ответила старая женщина, усаживая нас в просторной гостиной первого этажа. — Можно было бы много чего порассказать об этом благородном жилище, с которым я свыклась с младенчества, потому что и мои предки — и они также — жили здесь испокон века и первый из них прибыл сюда из Рима вместе с первыми Ченчи. А теперь я одна, дряхлая и согбенная, как моя башня, и в целом доме нет ни души, никого, кто смог бы взять на себя заботу прикрыть погребальным саваном мои старые кости. Тальяменте поглотит нас, и башню и меня, и все будет кончено. Да ниспошлет небо мир и спокойствие тем, у кого совесть так же чиста, как у нас с нею. Но я не помню, о чем я сейчас говорила? Ах, столько всего привелось мне тут повидать, не говоря уже о несчастьях последнего времени, что я стала совсем-совсем хворой и слабой и у меня едва хватает сил дотащиться от гостиной до входной двери и от входной двери обратно в гостиную — так я устала под бременем своих лет и горя.
Уже несколько лет, как со мной окончательно перестали считаться. Первым всегда приходил в замок албанец. Этот невежа отбирал у меня ключи — ведь он был таким же надменным и дерзким, как его господин, — и, поддерживая меня, чтобы ускорить мои шаги, приводил в эту комнату. Здесь он запирал меня на два оборота ключа, выкрикивая на прощание своим грубым и хриплым голосом: «Спокойного сна, Барбарина! Женщины вашего возраста только на то и годны, чтобы спать!» Скажите-ка сами, синьоры мои, разве так обращаются со старой служанкой, чистокровною римлянкой, проводившей у вашей колыбели бессонные ночи и столь часто выносившей вас на руках на зубцы башни, чтобы вы могли поближе рассмотреть звезды небесные? Желание увидеть их сверху беспокоило сон монсиньора, когда он был еще совсем крошечным. Его мать, бедная синьора, уже прикованная к постели болезнью, восклицала, обращаясь ко мне: «Что вы там делаете, Барбарина? Почему не выносите Марио на зубцы показать ему звезды? Или вы хотите, чтобы он умер от судорог и огорчения?» И тогда я укутывала его в одеяло, накрывала сверху своею накидкою или отцовским плащом и взбиралась, взбиралась до самого верха. Вот уже двадцать лет, как никто туда больше не поднимается! Как же он бывал счастлив, когда видел наконец звезды! Тогда он еще не умел говорить, но для каждой из них у него был особый крик. Увы! Не с земли он смотрит на них теперь, бедный мой мальчик!
— Все это, Барбарина, очень и очень печально, но только мы несколько уклонились от темы нашего разговора. Судя по началу вашего рассказа, нам показалось, что вы собираетесь жаловаться на Марио.
— Жаловаться? Жаловаться на монсиньора? О Господи, неужели я это сказала! Не его вина, что он стал грустным и нелюдимым. Он не делился больше со мною горестями, как некогда, в детские годы. Он доверял только албанцу. А когда я упрекала его за это, он становился передо мною, скрещивал на груди руки и смеялся, а я радовалась, видя, что он смеется. «Браво, браво, Барбарина, обещаю, что с этого дня буду следовать во всем вашим советам, но только ставлю условием, чтобы вы ни в чем себе не отказывали, жили как владелица замка и пораньше ложились спать. Ну, а если вас запирают на ключ, то эта предосторожность необходима и для вашей, и для моей безопасности». И потом он целовал меня в лоб, и опять смеялся, и обнимал меня за плечи, чтобы усадить в кресло.