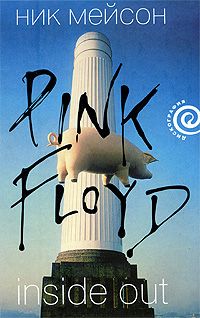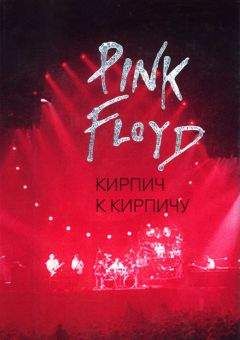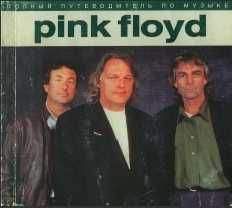Жак Казот - INFERNALIANA. Французская готическая проза XVIII–XIX веков
Через несколько минут доктор вошел в мою комнату.
— Графу нездоровится, — сказал он мне, — и потому я должен сам представиться господину профессору. Доктор Фребер, ваш покорный слуга. Мне чрезвычайно приятно лично познакомиться с ученым, заслуги которого известны всем читателям Кенигсбергской научно-литературной газеты. Угодно вам будет, чтобы подавали на стол?
Я ответил любезностью на любезность, прибавив, что, если время садиться за стол, я готов.
Когда мы вошли в столовую, дворецкий, по северному обычаю, поднес нам серебряный поднос, уставленный водками и солеными, очень острыми закусками для возбуждения аппетита.
— Разрешите мне в качестве врача, профессор, — обратился ко мне доктор, — рекомендовать вам стаканчик вот этой старки сорокалетней выдержки. Попробуйте: настоящий коньяк на вкус. Это всем водкам водка. Возьмите дронтхеймский анчоус; ничто так не прочищает и не расширяет пищевод, а ведь это один из важнейших органов нашего тела… А теперь — за стол. Отчего бы нам не разговаривать по-немецки? Вы из Кенигсберга, а я хоть и из Мемеля, но учился в Иене. Таким образом, мы не будем стеснены, так как прислуга, знающая только по-польски и по-русски, не будет нас понимать.
Сначала мы ели молча, но после первого стакана мадеры я спросил у доктора, часто ли с графом случаются болезненные припадки, лишившие нас сегодня его общества.
— И да и нет, — ответил доктор, — это зависит от того, куда он ездит.
— Как так?
— Если, например, он ездит по Россиенской дороге, он всегда возвращается с мигренью и в плохом настроении.
— Мне случалось ездить в Россиены, и со мной ничего подобного не бывало.
— Это, профессор, объясняется тем, что вы не влюблены, — ответил мне доктор со смехом.
Я вздохнул, вспомнив о Гертруде Вебер.
— Значит, — сказал я, — невеста графа живет в Россиенах?
— Да, в окрестностях. Невеста?.. Не знаю, невеста ли. Злостная кокетка! Она доведет его до того, что он потеряет рассудок, как его мать.
— А в самом деле, кажется, графиня… не совсем здорова?
— Она сумасшедшая, дорогой профессор, сумасшедшая. И я тоже сумасшедший, что поехал сюда.
— Будем надеяться, что ваш уход за нею вернет ей рассудок.
Доктор покачал головой, рассматривая на свет стакан бордо, который он держал в руке.
— Надо вам сказать, профессор, я состоял военным хирургом при Калужском полку. Под Севастополем{381} нам приходилось день и ночь отнимать руки и ноги. Я не говорю уже о бомбах, которые летали над нами, как мухи над падалью. Так вот, несмотря на дурную квартиру и скверную пищу, я тогда не скучал так, как здесь сейчас, где я ем и пью как нельзя лучше, живу как князь, а жалованье мне платят, словно лейб-медику… Но свобода, мой дорогой профессор, — вот чего мне недостает. С этой чертовкой я ни на минуту не принадлежу себе!
— И давно она на вашем попечении?
— Почти два года. Но с ума она сошла по меньшей мере двадцать семь лет назад, еще до рождения графа. Разве вам не рассказывали об этом в Россиенах или в Ковно? Ну так послушайте. Это редкий случай. Я хочу поместить о нем статью в Санкт-Петербургском медицинском журнале.{382} Она помешалась от страха…
— От страха? Как это могло быть?
— От страха, который она испытала. Она из рода Кейстутов. О, в семье наших хозяев не терпят неравных браков! Как же, мы ведем свой род от Гедимина!..{383} Так вот, профессор, через два или три дня после свадьбы, которую отпраздновали в этом замке, где мы с вами обедаем (ваше здоровье!), граф, отец нынешнего, отправился на охоту. Наши литовские дамы — амазонки, как вам известно. Графиня тоже едет на охоту… Опережает она ловчих или отстает от них, этого я вам не могу сказать наверное… Но только вдруг граф видит, что во весь опор скачет казачок графини, мальчик лет двенадцати — четырнадцати. «Ваше сиятельство! — кричит он. — Медведь утащил графиню!» — «Где?» — спрашивает граф. «Вон там», — отвечает казачок. Все мчатся к указанному месту: графини нет! Тут лежит ее задушенная лошадь, там — шубка графини, разорванная в клочья. Идут, обшаривают весь лес. Наконец кто-то из ловчих кричит: «Вон медведь!» И правда, через полянку шел медведь, волоча графиню. Наверное, он хотел затащить ее в чащу и там сожрать без помехи. Ведь эти животные — лакомки; они, как монахи, любят пообедать спокойно. Граф, всего два дня как повенчанный, поступил как рыцарь: он хотел броситься на медведя с охотничьим ножом, но, дорогой мой профессор, литовский медведь не олень, он не дастся простому ножу. К счастью, графский зарядчик, порядочный негодяй, к тому же напившийся в тот день до того, что зайца от козла не отличил бы, на расстоянии более ста шагов выстрелил из своего карабина, нисколько не думая, в кого попадет пуля: в зверя или в женщину…
— И уложил медведя?
— Наповал. Только пьяницам удаются такие выстрелы. Бывают, впрочем, и заговоренные пули, господин профессор. У нас тут есть колдуны, которые продают их по сходной цене… Графиня была вся покрыта ссадинами, без сознания, разумеется; одна нога у нее была сломана. Ее привезли домой, она пришла в себя, но рассудок ее покинул. Ее отвезли в Санкт-Петербург. Созвали консультацию — четыре доктора, увешанные орденами. Они говорят: «Графиня — в положении; весьма вероятно, что разрешение от бремени повлечет за собой благоприятный перелом». Предписали свежий воздух, жизнь в деревне, сыворотку, кодеин… Каждый получил по сто рублей. Через девять месяцев графиня родила здорового мальчика… Но где же благоприятный перелом? Как бы не так!.. Буйство ее усилилось. Граф показывает ей ребенка. Это всегда производит неотразимое впечатление… в романах. «Убейте его! Убейте зверя!» — кричит она. Чуть голову ему не свернула. И с тех пор чередуются то идиотическое слабоумие, то буйное помешательство. Сильная склонность к самоубийству. Приходится ее привязывать, чтобы вывозить на свежий воздух. Необходимо иметь трех здоровенных служанок, чтобы держать ее. А между тем, профессор, благоволите обратить внимание на следующее обстоятельство. Никакими уговорами я не мог добиться от нее повиновения; есть только одно средство ее успокоить. Стоит пригрозить, что ей обстригут волосы… Вероятно, в молодости у нее были чудные косы. Кокетство — вот единственное человеческое чувство, которое у нее осталось. Правда, забавно? Если бы мне предоставили право поступать с ней по моему благоусмотрению, может быть, я и нашел бы средство излечить ее.
— Какое же?
— Побои. Я этим вылечил десятка с два баб в одной деревне, где появилось это ужасное русское сумасшествие — кликушество;[113] одна начнет выкликать, за ней — другая, через три дня все бабы в деревне — кликуши. Только побоями я их и вылечил. (Возьмите рябчика, они очень нежны.) Граф так и не позволил мне попробовать.
— Как? Вы думали, что он согласится на такой отвратительный способ лечения?
— Ну, ведь он почти не знает своей матери, а потом — это было бы для ее же блага. Но признайтесь, профессор: вы никогда не поверили бы, что от страха можно сойти с ума?
— Положение графини было ужасно… Очутиться в лапах такого свирепого зверя!
— А сын — не в мамашу. Около года тому назад он попал совершенно в такое же положение и благодаря своему хладнокровию вышел из него невредимым.
— Из когтей медведя?
— Медведицы, притом такой огромной, каких давно не видывали. Граф бросился на нее с рогатиной. Не тут-то было; ударом лапы она откинула рогатину, схватила графа и повалила его на землю так же легко, как я опрокинул бы эту бутылку. Но, не будь глуп, он притворился мертвым… Медведица понюхала его, понюхала, а потом, вместо того чтобы растерзать, лизнула. У него хватило присутствия духа не шелохнуться — и она пошла прочь своей дорогой.
— Медведица приняла его за мертвого. Говорят, что эти звери не трогают трупов.
— Нужно этому верить на слово и воздерживаться от проверки на личном опыте. Но кстати о страхе, позвольте мне рассказать одну севастопольскую историйку. Мы сидели впятером или тестером за кувшином пива, позади походного лазарета славного пятого бастиона. Караульный кричит: «Бомба!» Все мы бросились плашмя наземь… впрочем, не все: один из нас по имени… ну, да ни к чему его называть… один молодой офицер, только что к нам прибывший, остался на ногах, с полным стаканом в руке, как раз в тот момент, когда бомба разорвалась. Она оторвала голову моему приятелю, бедному Андрею Сперанскому, славному малому, и разбила кувшин; к счастью, он был почти пуст. После взрыва мы поднялись и увидели в дыму нашего товарища, который допивал последний глоток пива как ни в чем не бывало. Мы сочли его за героя. На следующий день я встречаю капитана Гедеонова, только что выписавшегося из лазарета. Он говорит мне: «Я обедаю сегодня с вами и, чтобы отпраздновать свой выход из лазарета, ставлю шампанское». Мы садимся за стол. И молодой офицер, что пил пиво, тоже с нами. Он не знал, что будет шампанское. Около него откупоривают бутылку… Паф! Пробка летит прямо ему в висок. Он вскрикивает и падает в обморок. Поверьте, что этот смельчак и в первом случае страшно перепугался, а если продолжал тянуть пиво, вместо того чтобы спрятаться, то потому, что потерял голову и продолжал делать чисто автоматические движения, в которых не отдавал себе отчета. В самом деле, профессор, машина, называемая человеком…