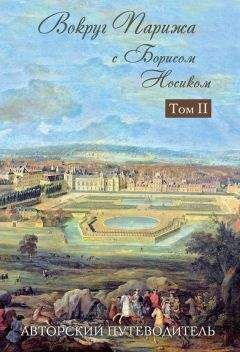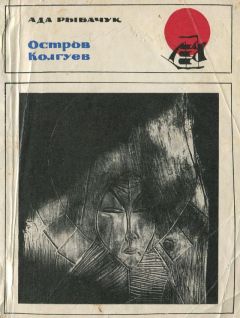Борис Носик - Вокруг Парижа с Борисом Носиком. Том 1
Впрочем, Лидия Юдифовна признавалась, что она, как и Марина Цветаева, ненавидела быт, только у нее помойное ведро не стояло посреди комнаты, поскольку быт в доме налаживала ее сестра Евгения. Сама Лидия Юдифовна занималась католической деятельностью и писала стихи:
Мне снилась русская зима.
Сугробы снега в переулках.
Полозьев хруст морозно-гулкий,
Москва, укутанная в снег.
…Вот Кремль! Вот башни вековые.
Часовни Иверской уж нет…
…Косматая клячонка, сани.
Ванька в шапке меховой
Кнутом мне машет: «Барыня! А, барыня!
Садитесь! Куда велишь?»
«Куда – пока в Париж!»
Николай Александрович Бердяев очень много писал, мог работать в любом настроении и писал блестяще. Он был религиозным философом, высоко ценимым во всем мире, но был он и политиком, и социологом, и экономистом и, как верно отмечалось, «не чужд был партийной страсти». При этом он считал себя марксистом, левым и, как какая-нибудь студентка из либерального американского университета, опасался, что его, упаси Боже, сочтут реакционером и сколько-нибудь «не левым». Хотя он написал две вполне антибольшевистские, блестящие книжки, он считал себя революционером (вероятно, даже в большей степени, чем большевики). В дневнике за 1943 год Лидия Юдифовна передает слова Бердяева: «Из людей, с которыми я был связан в прошлом (С. Булгаков, П. Струве), только во мне остались еще какие-то элементы марксизма. У них они окончательно исчезли. Я же по природе своей революционер». К тому времени Бердяев уже объявил себя вполне «просоветским» человеком, и это было очень по-эмигрантски. Бердяев, впрочем, с первого дня заявил, что он не сам эмигрировал, а был выслан. Звучит это последнее заявление неубедительно, так как товарищ Ленин предоставлял истинным революционерам выбор: вернуться и быть расстрелянным. Так многие и поступили. Поскольку Бердяев неплохо знал об истинном положении подсоветских россиян, о гибели священников, крестьян, интеллигенции, о лагерях и цензуре, его восторги по поводу демократической советской конституции и сталинского режима наводят на мысль о том, что, глубоко интересуясь Богочеловеком, религиозно-политический философ Бердяев мало интересовался судьбой простого человека. Такое бывает и с французскими философами (примером может служить «друг пролетариата» и человеконенавистник-марксист, исламист-интегрист Роже Гароди).
Надо сказать, что, странные, порой неожиданные и абсурдные пробольшевистские выступления прославленного Бердяева ставили в тупик и людей, лично знавших его, и его исследователей. И Вишняк, и Кускова говорили в связи с этим о «тайне Бердяева», разгадать которую не брались. Дерзнем предложить гипотезу, основанную не на сопоставлении бесчисленных противоречащих друг другу суждений этого европейски знаменитого автора, а на интимном признании жившего в ту же пору Осипа Мандельштама, обратившегося к Господу со смиренной молитвой:
Я за жизнь боюсь, за Твою рабу…
Когда решение о высылке в 1922 году интеллигенции («корабль философов») было принято «на самом верху», осуществление операции (вполне возможно, что в рамках того же «Треста») было доверено Ф. Дзержинскому, и тогда для начала чекисты упрятали самых видных и влиятельных из намеченных к высылке интеллигентов на Лубянку, в «корабль смерти», в камеры смертников. Можно гадать зачем. Можно также гадать, о чем с ними толковали на «дружеских собеседованиях» у следователя – где-нибудь по соседству с камерой пыток. О том, какую «взаимоприемлемую» общую платформу вырабатывали на этих допросах-совещаниях (властям позарез нужно было склонять в ту пору Запад в сторону большевистской «национальной власти»). Излишне гадать о том, хотелось ли этим прекрасным людям (имена их известны – Бердяев, Осоргин, Кускова и ее муж, Карсавин, Ремизов…) выйти из «корабля смерти» живыми на свободу и уехать хоть на край света. Об этом догадаться нетрудно… И вот их выпустили, им подарили жизнь, взяв предварительно с них какие-то обязательства и дав подписать специальную бумагу. О бумаге этой упоминали и Бердяев и другие, а Бердяев даже дерзнул назвать какое-то неправдоподобное, абсурдное обязательство, которое с него взяли (обязательство «не возвращаться»). Но кто видел эту бумагу?
Вскоре по приезде в Берлин Бердяев был приглашен на антибольшевистское совещание философов на квартире Струве и произнес пылкую речь в защиту… большевизма. Беднягу Бердяева, едва вышедшего из камеры смертников, можно понять. Думаю, что ни в чьем прощении он не нуждается…
Через год после высылки философов помощница Ф.Э. Дзержинского, бывшая жена Горького Е.П. Пешкова, поехала в Европу затевать кампанию… «возвращенчества» (об этой истории дважды писал В. Ходасевич). Возглавить эту кампанию (имевшую целью смягчение неприязни Запада к большевикам, которым теперь нужна была срочно экономическая помощь капиталистов) влиятельная посланница ЧК поручила Кусковой, Осоргину, Пошехонову… Думается, они не могли ей отказать. Русская диаспора во Франции (ни на одном из своих уровней) никогда не могла отрешиться от страха перед всемогущей ЧК, избавиться от ее опеки, даже когда эмиграция этого хотела (а ведь и не всегда хотела при том положении полунищеты, униженности, утраты былого социального положения, в котором жили изгнанники). Не могу избавиться от мысли, что на всплески бердяевского филобольшевизма и «революционности» эти тайные «условия» могли влиять, независимо от того, как философ сам объяснял эти странности и себе самому, и другим…
Кроме столь понятного страха за жизнь Бердяев мог даже испытывать некую благодарность к «солдатам Дзержинского», которые выпустили его на свободу (хотя, конечно, все же и не оставляли вниманием) – поговорили так мирно (без зуботычин), обсудили кое-что и отпустили пользоваться проклятыми, столь ненавистными демократическими свободами, и даже писать о любимом, о своем разрешили (лишь изредка вставляя, да еще иногда и петитом) какую-нибудь смехотворно-восторженную фразу о сталинской конституции или еще о чем-нибудь подобном). Да ведь благодарность эта могла и подпитываться по временам какой-нибудь помощью. Вот супруга философа Любовь Юдифовна посещает время от времени жену старого знакомого Семена Либермана Генриэтту Паскар (она здесь зовет себя Паскаль, так ведь и новый ее коминтерновский возлюбленный Фогель зовется здесь повсеместно Вожелем). До крайности легкомысленное любовное поведение зрелой Генриэтты слегка шокирует добрую католичку Любовь Юдифовну, но при этом она ведь так добра, Генриэтта, так щедра. Щедроты ее могут питаться только одним источником – бизнесом ее мужа Семена Либермана (будущего тестя парижской музы Маяковского Т. Яковлевой), потому что С. Либерман еще с петербургских пореволюционных времен был бизнесмен-большевик, помощник Ленина и Красина. С последним он связи и за границей не порывал, деньги они добывали вместе, себя, конечно, не обижали, но и о нуждах большевистских пеклись. Бердяев в своих отвлеченных трудах не забывал (петитом же где-нибудь) поблагодарить С. Либермана за помощь (не философскую, конечно, а вполне конкретную). Да и мирную смерть С. Либермана в США (выделив из многих смертей, косящих людей что в России, что во Франции, что за океаном) отметил Бердяев особым некрологом…
Сам Бердяев умер в 1948 году с чистой совестью, за письменным столом, не выпуская перо из рук, прославляя Сталина и держа Библию под рукой. Похоронен он был на старом кламарском кладбище, а на первом этаже его дома устроена ныне церковь Святого Духа (входящая в юрисдикцию Московской патриархии), иконостас для которой написал отец Григорий Круг.
Бердяев был не единственным известным русским философом в малоизвестном местечке Кламар. В доме 11-бис на улице Сен-Клу (rue de Saint-Cloud) жил с семьей в середине 20-х годов (с 1926 по 1928) философ Лев Платонович Карсавин. Он принадлежал к тому главному направлению Русского религиозно-философского ренессанса, начало которого было положено Владимиром Соловьевым (к направлению этому относят отца Павла Флоренского, отца Сергия Булгакова, Евгения Трубецкого, Семена Франка, Николая Лосского). Вместе с другими философами, обременявшими ленинскую Россию излишком культуры, Лев Карсавин был выслан из России на «корабле философов» в августе 1922 года, жил и печатался в Берлине, еще в 1925 году начал сближаться с евразийцами, а летом 1926 года переехал в Кламар, самое гнездо «левых евразийцев», на всех парах шедших к сближению с большевиками. В Кламаре посещала Карсавина его красавица сестра, знаменитая дягилевская балерина Тамара Карсавина.
Лев Платонович Карсавин стал главным теоретиком левого евразийства, он напечатал два десятка теоретических статей в газете «Евразия». Понятное дело, что Карсавин отстаивал подчинение индивида коллективу и возлагал большие надежды на гуманизацию большевизма. Понять подобную слепоту философа не так просто, но, может, Карсавин с еще более философским спокойствием, чем Бердяев, взирал на страдания русских крестьян и пролетариев…