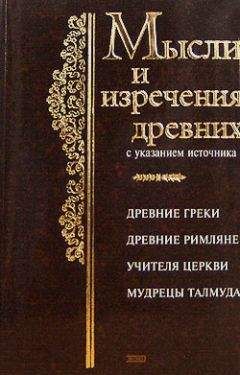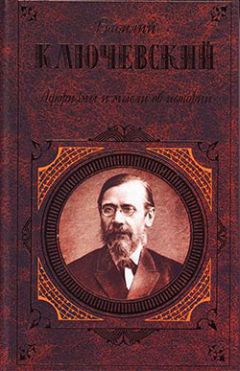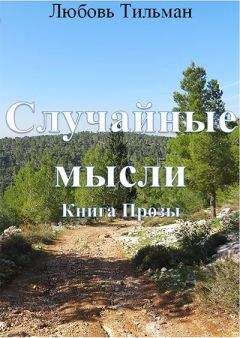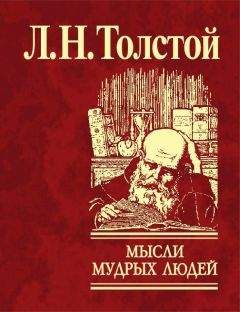Геннадий Красухин - Круглый год с литературой. Квартал второй
Эту фразу произносит судья Бэзил в раннем рассказе Г.К. Честертона «Невероятные приключения майора Брауна».
Да, Гильберт Кийт Честертон, умерший 14 июня 1936 года (родился 29 мая 1874-го), тогда ещё не определился с героем. Это потом имя Брауна прочно закрепится за патером. И отец Браун Честертона заставит с неменьшим интересом и напряжением следить за своей логикой, чем заставляет это сделать читателя Шерлок Холмс Конан-Дойля. А в раннем своём рассказе роль детектива Честертон определил судье Бэзилу, которому будет вторить его наследник патер Браун:
– Я думаю, что самое трудное – это убедить кого-нибудь в том, что ОхО=О. Люди верят самым странным вещам, если они идут подряд. Макбет поверил трём словам трёх ведьм, несмотря на то, что первое он сказал им, а последнее он мог осуществить только впоследствии.
Главный конёк детектива Честертона – его безукоризненная логика. Причём мыслит отец Браун в полном соответствии с догматами христианской веры.
Тем более это ему легко было сделать, что сам Честертон был глубоко верующим человеком, написал религиозно-философские трактаты, посвящённые апологии христианства «Что стряслось с миром», «Ортодоксия»), книги о великих учителях церкви («Св. Франциск Ассизский», «Св. Фома Аквинский»).
Всего Честертон написал около 80 книг. Он работал во всех литературных жанрах, писал стихи, рассказы, эссе, пьесы, романы. И всё делал великолепно.
Закончу стихотворением Честертона в переводе Григория Кружкова:
ПОСВЯЩЕНИЕ Э. К. Б.
Мы были не разлей вода,
Два друга – я и он,
Одну сигару мы вдвоём
Курили с двух сторон.
Одну лелеяли мечту,
В два размышляя лба;
Всё было общее у нас —
И шляпа, и судьба.
Я помню жар его речей,
Высокий страсти взлёт,
Когда сбивался галстук вбок,
А фалды – наперёд.
Я помню яростный порыв
К свободе и добру,
Когда он от избытка чувств
Катался по ковру.
Но бури юности прошли
Давно – увы и ах! —
И вновь младенческий пушок
У нас на головах.
И вновь, хоть мы прочли с тобой
Немало мудрых книг,
Нам междометья в трудный час
Приходят на язык.
Что нам до куколок пустых! —
Не выжать из дурёх
Ни мысли путной, сколько им
Ни нажимай под вздох.
Мы постарели наконец,
Пора и в детство впасть.
Пускай запишут нас в шуты —
Давай пошутим всласть!
И если мир, как говорят,
Раскрашенный фантом,
Прельстимся яркостью даров
И краску их лизнём!
Давным-давно минули дни
Унынья и тоски,
Те прежние года, когда
Мы были старики.
Пусть ныне шустрый вундеркинд
Влезает с головой
В статистику, и в мистику,
И в хаос биржевой.
А наши мысли, старина,
Ребячески просты;
Для счастья нужен мне пустяк —
Вселенная и ты.
Взгляни, как этот старый мир
Необычайно прост, —
Где солнца пышный каравай
И хороводы звёзд.
Смелей же в пляс! и пусть из нас
Посыплется песок, —
В песочек славно поиграть
В последний свой часок!
Что, если завтра я умру? —
Подумаешь, урон!
Я слышу зов из облаков:
«Малыш на свет рождён».
15 ИЮНЯ
В день рождения Лицея 1825 года, обращаясь к своим друзьям-лицеистам, Пушкин писал:
Пируйте же, пока ещё мы тут!
Увы, наш круг час от часу редеет;
Кто в гробе спит, кто дальный сиротеет;
Судьба глядит, мы вянем; дни бегут;
Невидимо склоняясь и хладея,
Мы близимся к началу своему…
Кому ж из нас под старость день Лицея
Торжествовать придётся одному?
«Торжествовать», то есть отмечать лицейскую годовщину одному, выпало Александру Михайловичу Горчакову, достигшему при Александре II вершины государственной карьеры: он был назначен канцлером. А до этого занимал пост министра иностранных дел и сохранял его почти до самой смерти.
Ясно, что внешняя политика России в те времена во многом связана с именем князя Александра Михайловича Горчакова, родившегося 15 июня 1798 года.
Многократный посол при Николае I во многих государствах, он назначен был Александром II министром иностранных дней сразу же после окончания бесславной Крымской войны.
Правда, некоторые нынешние историки вовсе не считают Крымскую войну бесславной, не признают поражения в ней России. Несколько лет назад я прочёл в газете «Аргументы и факты» о том, что некая конференция, посвящённая знаменитой Крымской войне 1853–1856 гг., пришла к выводу, что русские в ней победили. «Старá шутка!», – как кричали булгаковские герои. До этой конференции о Крымской войне иначе не говорили как о «позорной» для русского оружия. Но вот устроители конференции – Центр национальной славы России и фонд Андрея Первозванного – стали утверждать, что это выдумка советских историографов. Что не преследовало правительство Николая I в Крымской войне никаких экономических или политических целей: «Стоит прочитать те же императорские манифесты о её начале и прекращении, из которых видно: главная цель войны, декларируемая в первом документе, – обеспечение традиционных прав Православной церкви на Святой земле. И она же в результате достигнута полностью».
Императорские манифесты, конечно, лучшее свидетельство того, ради чего затевали войну и ради чего её закончили. В них столько же правды, сколько в известной речи Сталина на параде 7 ноября 1941 года: «В Германии теперь царят голод и обнищание, за 4 месяца войны Германия потеряла 4 с половиной миллиона солдат. Германия истекает кровью, её людские резервы иссякают, дух возмущения овладевает не только народами Европы, подпавшими под иго немецких захватчиков, но и самим германским народом, который не видит конца войны».
Мне скажут: а что же оставалось делать Сталину, который напутствовал уходящих на фронт солдат? Он врал, чтобы ободрить армию.
Вот и царские манифесты о начале и прекращении войны врали, чтобы ободрить подданных. Но своей цели не достигли. Ведь это не советский историк Е. В. Тарле, а великий русский поэт Фёдор Иванович Тютчев оценил итоги Крымской войны и роль царя в ней: «Чтобы создать такое безвыходное положение, нужна была чудовищная тупость этого злополучного человека».
Как и Николай I, Тютчев был убеждён, что «Москва и град Петров, и Константинов град – / Вот царства русского заветные столицы…» Тютчев жаждал войны с Турцией за Константинов град, то есть за Константинополь, захваченный турками и переименованный ими в Стамбул в 1453 году, торопил с этой войной правительство Николая, не сомневаясь, что Россия сумеет реализовать свои (или его) панславистские амбиции:
Не верь в святую Русь кто хочет,
Лишь верь она себе самой, —
И Бог победы не отсрочит
В угоду трусости людской.
То, что обещано судьбами
Уж в колыбели было ей,
Что ей завещано веками
И верой всех её царей, —
То, что Олеговы дружины
Ходили добывать мечом,
То, что орёл Екатерины
Уж прикрывал своим крылом, —
Венца и скиптра Византии
Вам не удастся нас лишить!
Удалось, однако! Ни византийского «венца и скиптра», ни контроля над проливами Николай получить не смог. Русская эскадра была разгромлена, Севастополь лежал в руинах. Более чем вероятно много раз высказанное предположение, что поражение русской армии привело императора, отличавшегося отменным здоровьем, к скоропостижной кончине. Подписанный в Париже мирный договор, по которому Россия лишилась значительных своих территорий и своего влияния на Балканах, победным можно назвать только при очень разгорячённом воображении! Мирный договор объявлял Чёрное море нейтральным и запрещал России иметь там военный флот и какие-либо военные базы. Этот запрет, как написал автор газеты, о которой я веду сейчас речь, «был фактически преодолён спустя 15 лет». Да, Лондонская конвенция от 17 марта 1871 года разрешила России и Турции держать военные суда в Чёрном море. Однако запрещала России их хождение через проливы. Это было несомненным дипломатическим успехом канцлера Горчакова. А всё-таки, хорошо это или плохо, что 15 лет Россия не имела возможности защитить свои черноморские берега? Это что – свидетельство победы русского оружия?