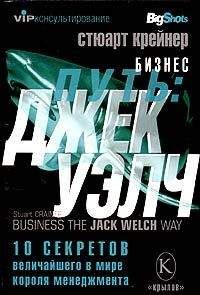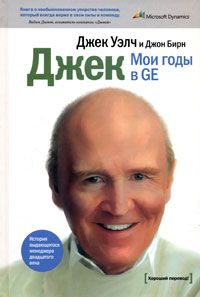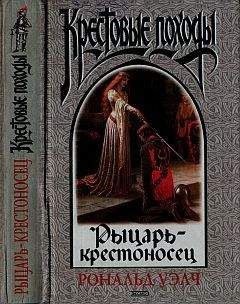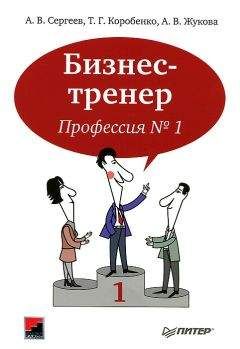Геннадий Красухин - Круглый год с литературой. Квартал четвёртый
Следующую командировку (кажется, от «Литературной газеты») Владимов взял на торговый флот. Вернувшись, написал роман «Три минуты молчанья», который в урезанном цензурой виде был опубликован в 1969 году.
В 1963–1965 годах он написал повесть о сторожевой собаке чекистов «Верный Руслан», которую пытался опубликовать у себя в стране. Но попытка была негодной. Лагерная тема после смещения Хрущёва сделалась запретной. Владимову ничего не оставалось, как передать повесть на Запад.
Помню отчаянные попытки властей не допустить этой публикации. Владимову предложили полосу в «Литературной газете» для разговора с сервильным критиком Феликсом Кузнецовым. Этот диалог открывал дорогу переизданиям повестей Владимова. Ему был обещан договор с Госполитиздатом на книгу о каком-либо герое из серии «Пламенные революционеры». Владимов согласился. Диалог состоялся. Но напечатан был вопреки желанию Владимова, чья жена Наташа, которой писатель полностью доверял, внимательно вычитала гранки и сочла недопустимым те или иные фразы, вложенные в уста мужа.
Опубликованный в газете диалог таким образом только подогрел намерение Владимова отдать на Запад своего «Верного Руслана», которого напечатали в ФРГ в 1975 году.
В 1977 году Владимов выходит из Союза писателей и становится руководителем московской секции «Международная амнистия», которая запрещена в СССР. В 1982 году на Западе появляется новая публикация Георгия Николаевича – рассказ «Не обращайте вниманья, маэстро».
Власти выталкивают Владимова из страны. Он уезжает в 1983-м и уже в 1984–1986 является главным редактором эмигрантского журнала «Грани».
Правда, этот журнал Народно-Трудового Союза он покидает, заявив, что сам НТС его не устраивает.
В эмиграции он пишет свой знаменитый роман «Генерал и его армия», вызвавший неоднозначную реакцию у нас, когда в 1994 году его опубликовали.
В частности, с резкой статьёй, критикующей роман, выступил писатель В.О. Богомолов, обвинивший Владимова в отсебятине, которая расходится с данными архивов.
Однако я понимаю решение жюри Русского Буккера, давшего Владимову премию за этот роман. Роман написан очень сильно. Что же до иных исторических неточностей, то, во-первых, у Толстого в «Войне и мире» их находили немало, а, во-вторых, Богомолову, служившему в СМЕРШе, пройти в гэбешные архивы было несравнимо легче, чем эмигранту-писателю.
Владимов умер 19 октября 2003 года, не закончив романа, над которым работал «Долог путь до Типперэри». Родился 19 февраля 1937 года.
* * *С Галиной Белой и её мужем Славой Воздвиженским мы жили одно время в соседних домах. Кроме того, со Славой мы состояли в одном Бюро секции критики и литературоведения московского отделения Союза писателей, а Галя меня нередко просила выступать оппонентом на защите её дипломников и аспирантов (она тогда работала на факультете журналистики МГУ).
Галя мне рассказывала, как вместе с Д. Поликарповым, который был ректором пединститута, они, студенты, отправились на похороны Сталина, и как толпа непременно бы их раздавила, если б не её первый муж однокурсник Лёва Шубин, который знал эти места и сумел вывести всю группу проходными дворами с Трубной площади.
Была Галина Андреевна Белая, родившаяся 19 октября 1931 года, жизнерадостным, неунывающим человеком, довольно бесстрашным, и Слава Воздвиженский любил повторять, что если их с Галей посадят, то за Галин длинный язык.
Тем не менее, карьера Белой складывалась удачно. Особенно после распада Советского Союза, когда Юрий Николаевич Афанасьев, с которым у неё сложились прекрасные отношения, будучи ректором нового университета – РГГУ пригласил её стать деканом историко-филологического факультета и одновременно заведующей кафедрой русской литературы.
И кафедра, и факультет, благодаря Белой, быстро выдвинулись в авторитетные для многих других вузов.
Из работ Галины Андреевны наиболее интересны «Дон-Кихоты двадцатых годов: «Перевал» и судьба его идей» (1989) и «Дон-Кихоты революции – опыт побед и поражений». Последняя книга вышла в год её смерти: Белая умерла 11 августа 2004 года. И получилось, что эта книга достойно завершает исследования учёного, относящиеся к рожденной революцией литературе.
* * *Татьяна Ивановна Лещенко-Сухомлина, родившаяся 19 октября 1903 года, сильно намыкалась в своей жизни. В 1923 году вышла замуж за американца, уехала в Америку, где окончила Колумбийский университет. После развода с американским мужем стала женой русского скульптора Дмитрия Фёдоровича Цаплина, которому родила в 1931 году дочь Веру Цаплину.
В начале 30-х возвращается в Россию. Становится профессиональным литературным переводчиком. Начинает с романа Д. Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей» (1932).
30 сентября 1947 года арестована и приговорена к 8 годам ИТЛ. Отправлена в Воркуту, где попала в Воркутинский лагерный театр. Но в 1952-м её переводят в лагерь-совхоз на должность ассенизатора. В 1953-м получает инвалидность и этапируется, вместе с другими инвалидами по разным тюрьмам.
После освобождения 2 апреля 1954-го с правом жить у матери в Орджоникидзе снова занимается переводом. Переводит роман У. Коллинза «Женщина в белом».
В марте 1956 года реабилитирована и вернулась в Москву. Вышла замуж за В.В. Сухомлина, вернувшегося в Россию из эмиграции. Похоронила мужа в 1963-м.
В последние годы жизни работает в архивах, выступает с концертами (она серьёзно занималась вокалом) на вечерах лагерной поэзии, записала пластинку романсов на фирме «Мелодия».
А кроме того, оставила книгу «Долгое будущее. Дневник-воспоминание» в 2 частях, которая издана при жизни автора.
Увы, мне не удалось найти дату её смерти. Указан только год – 1998. Буду признателен, если кто-нибудь сообщит мне о дне и месяце её кончины.
* * *Отец Юрия Евгеньевича Пиляра, рождённого 19 октября 1924 года, сельский учитель, был репрессирован и погиб в заключении в 1939 году.
Пиляр ушёл на фронт добровольцем. В июле 1942 года, контуженный, попал в плен. Содержался в концлагере Маутхаузен.
На дальнейшей его судьбе это обстоятельство, однако, не сказалось. С 1946 года он живёт в Москве. Окончил Литературный институт.
В 1955 году опубликовал в «Новом мире» повесть о фашистских концлагерях «Всё это было».
Поставил свою подпись под письмом, осуждавшим процесс правозащитников Гинзбурга, Галанскова, Добровольского и Лашковой. За это получил выговор по писательской линии. Отделался легко, если учесть, что он был коммунистом.
Потом я узнал причину такого снисходительного к нему отношения. Он был один из немногих коммунистов, который открыл допрашивающим его секретарям московского союза писателей, кто дал подписать ему письмо. Балтер не открыл – его исключили из партии, Непомнящий не открыл – исключили. Пиляра в партии оставили, пожурив.
А на тему гитлеровских лагерей написал ещё романы «Люди остаются людьми» (1966). «Пять часов до бессмертия» (1974) и «Забыть прошлое» (1980). Написал несколько бытовых повестей и книг для детей.
Повесть «Честь» о генерале Карбышеве вышла в год его смерти. Он умер 10 апреля 1987 года.
Последнее его произведение «Исповедь бывшего узника» опубликовано в 1999 году.
* * *Надежда Полякова была одно время очень известным ленинградским поэтом. Почти каждый год выпускала по книжке. Была ещё и детским поэтом. Словом, обычная благополучная поэтесса, которых в провинции не мало.
А потом я узнал, что Надежда Михайловна Полякова, когда перестали издательства платить по рублю сорока копеек за стихотворную строчку да ещё и потиражные за книги, ушла из профессиональной поэзии и устроилась в школу учителем русского языка и литературы.
Что ж. Таких примеров и в Москве много. Знаю профессионального поэта, бывшего заведующего отделом поэзии народов России (невероятно хлебное место!), который, когда ликвидировали этот издательский отдел, походил-походил и устроился грузчиком на книжный склад. Знаю другого – тоже не бедствовал в СССР, но развалилась страна – ушёл в менеджеры на мясной рынок. Да и знаменитый графоман – лауреат ленинской премии Егор Исаев поначалу, испугавшись, что больше печатать не будут, взялся на даче в Переделкине разводить для продажи кур.
Полякова умерла 19 октября 2007 года (родилась 15 декабря 1923-го). Конечно, с Егором Исаевым её не сравнишь: она не была графоманкой. Впрочем, судите сами:
И мне давали подзатыльники,
Но в переносном, не в прямом.
И не друзья, а собутыльники
Охотно приходили в дом.
Произносили речи лестные,
Стаканчик трогая рукой.
И были среди них известные
Одной какой-нибудь строкой.
Хвалились песенною силою
И тем, что любит их народ…
А я была хозяйкой милою,
Что сытный ужин подаёт.
Я думала, что есть особая
Хмельная дружба меж людьми.
Но уходили, дверью хлопая,
И поносили за дверьми.
Об этом вспомнила нечаянно
В пустом дому, совсем одна…
Ведь всё ушло, как пар из чайника,
И строчки их и имена…
Числила ли она себя среди этих ушедших? Бог весть!