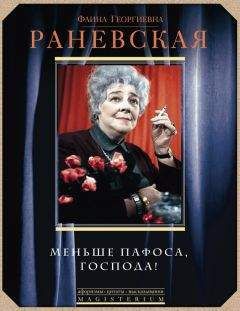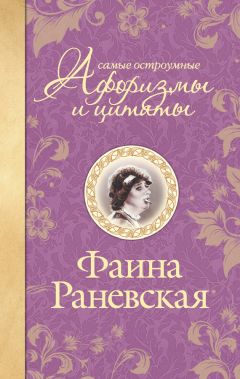Геннадий Красухин - Круглый год с литературой. Квартал третий
Я привёл эту обширную выписку, чтобы показать, каким был этот оригинальный чудак – граф Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов, родившийся 25 сентября 1790 года, публиковавший в юности стихи, написанные под влиянием Семёна Боброва и Гаврилы Державина, бывший литературным противником Карамзина – одним из так называемых «архивистов».
Вяземский не пишет, из-за чего был высечен камердинер Дмитриева-Мамонова. Он был высечен, потому что у помещика имелись на руках доказательство, что тот, недавно поступивший на службу, был нанят правительством, чтобы шпионить за графом.
А для чего правительству нужно было приставить к Мамонову шпиона? Дело в том, что граф организовал конспиративное общество «Орден русских рыцарей», в чью программу входил захват власти и широкий круг последующих реформ. Правительству был подан донос. После этого и появился в доме Мамонова шпион, с которым граф расправился круто.
Наказанный камердинер явился в Москву – жаловаться военному губернатору Д.В. Голицыну Тот отправил в имение Мамонова своего адъютанта. И когда адъютанта прогнали, в село явились жандармы и солдаты и арестовали графа.
Расследование его дела курировали лично император Александр I и влиятельнейший приближённый царя Аракчеев. И после того, что, как и пишет Вяземский, «по управлению имением его [Мамонова] оказались беспорядки», графа по именному повелению подвергли домашнему аресту в московском доме в Мамоновом переулке. Назначенная Д. Голицыным медицинская комиссия признала Дмитриева-Мамонова сумасшедшим. 5 июля 1825 года кабинет министров принял решение об установлении над Мамоновым опеки.
А чуть раньше, сразу после декабрьского восстания граф, ещё не признанный сумасшедшим, отказался присягать новому императору Николаю I и признавать законность его режима. После этого его лечение стало для Мамонова мучением. Родственник графа и один из его последних опекунов Н. А. Дмитриев-Мамонов пишет, что «первое время с ним обращались строго и даже жестоко, чему служат доказательством горячешные рубашки и бинты, которыми его привязывали к постели, найденные мною тридцать лет спустя в его гардеробе».
В 30-х годах графа содержали на Воробьёвых горах в усадьбе, купленной у князя Юсупова. Имение это получило название у москвичей «Мамоновой дачи». Там он прожил ещё больше 30 лет, терпя издевательства. Там и скончался 23 июня 1863 года.
Стихи он писал, как я уже сказал, в молодости. Вот – одно из них. Считается, что оно представляет собой программу «Ордена русских рыцарей»:
В тот день пролиется злато – струёю, а сребро – потоком.
Восстанут ли бессмысленные на мудрых и слабые на крепких!
Москва просияет, яко утро, и Киев, яко день.
Восстанут ли бессмысленные на мудрых и слабые на крепких?
Богатства Индии и перлы Голконда пролиются на пристанях Оби и Волги,
И станет знамя россов у понта Средиземного.
Восстанут ли бессмысленные на мудрых и слабые на крепких!
Исчезнет, как дым утренний, невежество народа,
Народ престанет чтить кумиров и поклонится проповедникам правды.
Восстанут ли бессмысленные на мудрых и слабые на крепких!
В той день водрузится знамя свободы в Кремле, –
С сего Капитолия новых времян полиутся лучи в дальнейшие земли.
Восстанут ли бессмысленные на мудрых и слабые на крепких!
В тот день и на камнях по стогнам будет написано слово,
Слово наших времен – свобода!
Восстанут ли бессмысленные на мудрых и слабые на крепких!
Богу Единому да воздастся хвала!
Вот – частичка воспоминаний об эпизоде, связанном с Пушкиным:
«В одно прекрасное (помнится, зимнее) утро – было ровно три четверти восьмого, – только что успев окончить свой военный туалет, я вошёл в соседнюю комнату, где обитал мой майор, чтоб приказать подавать чай. [Денисевича] не было в это время дома; он уходил смотреть, всё ли исправно на графской конюшне. Только что я ступил в комнату, из передней вошли в неё три незнакомые лица. Один был очень молодой человек, худенький, небольшого роста, курчавый, с арабским профилем, во фраке. За ним выступали два молодца-красавца, кавалерийские гвардейские офицеры, погромыхивая своими шпорами и саблями. Один был адъютант; помнится, я видел его прежде в обществе любителей просвещения и благотворения; другой – фронтовой офицер. Статский подошел ко мне и сказал мне тихим, вкрадчивым голосом: «Позвольте вас спросить, здесь живет Денисевич?» – «Здесь, – отвечал я, – но он вышел куда-то, и я велю сейчас позвать его». Я только хотел это исполнить, как вошёл сам Денисевич. При взгляде на воинственных ассистентов статского посетителя он, видимо, смутился, но вскоре оправился и принял также марциальную осанку. «Что вам угодно?» – сказал он статскому довольно сухо. «Вы это должны хорошо знать, – отвечал статский, – вы назначили мне быть у вас в восемь часов (тут он вынул часы); до восьми остаётся ещё четверть часа. Мы имеем время выбрать оружие и назначить место…» Всё это было сказано тихим, спокойным голосом, как будто дело шло о назначении приятельской пирушки. [Денисевич] мой покраснел как рак и, запутываясь в словах, отвечал: «Я не затем звал вас к себе… я хотел вам сказать, что молодому человеку, как вы, нехорошо кричать в театре, мешать своим соседям слушать пиесу, что это неприлично…» – «Вы эти наставления читали мне вчера при многих слушателях, – сказал более энергическим голосом статский, – я уж не школьник, и пришёл переговорить с вами иначе. Для этого не нужно много слов: вот мои два секунданта; этот господин военный (тут указал он на меня), он не откажется, конечно, быть вашим свидетелем. Если вам угодно…» [Денисевич] не дал ему договорить. «Я не могу с вами драться, – сказал он, – вы молодой человек, неизвестный, а я штаб-офицер…» При этом оба офицера засмеялись; я побледнел и затрясся от негодования, видя глупое и униженное положение, в которое поставил себя мой товарищ, хотя вся эта сцена была для меня загадкой. Статский продолжал твёрдым голосом: «Я русский дворянин, Пушкин: это засвидетельствуют мои спутники, и потому вам не стыдно иметь будет со мной дело».
При имени Пушкина блеснула в голове моей мысль, что передо мною стоит молодой поэт, таланту которого уж сам Жуковский поклонялся, корифей всей образованной молодежи Петербурга, и я спешил спросить его: «Не Александра ли Сергеевича имею честь видеть перед собою?»
– Меня так зовут, – сказал он, улыбаясь.
«Пушкину, – подумал я, – Пушкину, автору «Руслана и Людмилы», автору стольких прекрасных мелких стихотворений, которые мы так восторженно затвердили, будущей надежде России, погибнуть от руки какого-нибудь [Денисевича]; или убить какого-нибудь [Денисевича] и жестоко пострадать… нет, этому не быть! Во что б ни стало, устрою мировую, хотя б и пришлось немного покривить душой».
[…] Все убеждения мои сопровождал я описанием ужасных последствий этой истории, если она разом не будет порешена. «В противном случае, – сказал я, – иду сейчас к генералу нашему, тогда… ты знаешь его: он шутить не любит». Признаюсь, я потратил ораторского пороху довольно, и недаром. Денисевич убедился, что он виноват, и согласился просить извинения. Тут, не дав опомниться майору, я ввёл его в комнату, где дожидались нас Пушкин и его ассистенты, и сказал ему: «Господин [Денисевич] считает себя виноватым перед вами, Александр Сергеевич, и в опрометчивом движении, и в необдуманных словах при выходе из театра; он не имел намерения ими оскорбить вас».
– Надеюсь, это подтвердит сам господин [Денисевич], – сказал Пушкин. Денисевич извинился… и протянул было Пушкину руку, но тот не подал ему своей, сказав только: «Извиняю», – и удалился с своими спутниками, которые очень любезно простились со мною.
Скажу откровенно, подвиг мой испортил мне много крови в этот день – по каким причинам, вы угадаете сами. Но теперь, когда прошло тому тридцать шесть лет, я доволен, я счастлив, что на долю мою пришлось совершить его».
Всё резонно. Не окажись рядом с майором Денисевичем Ивана Ивановича Лажечникова, родившегося 25 сентября 1792 года, неизвестно, не пал бы Пушкин на дуэли ещё в 1819 году! Уже только за этот поступок русская литература многим обязана Ивану Ивановичу!
Но она Лажечниковым ещё и обогащена. Иван Иванович стоит у истоков русского исторического романа.
Уже его роман «Последний Новик» (1831-1833) имел широкую популярность.
А самый знаменитый его роман «Ледяной дом» он написал в 1835 году.
Впрочем, уж коли мы начали с Пушкина, предоставим ему возможность высказаться о романах Лажечникова. Он сделал это в письме писателю от 3 ноября 1835 года: