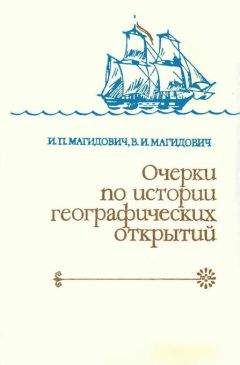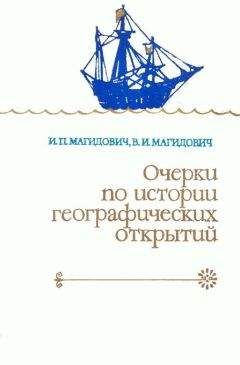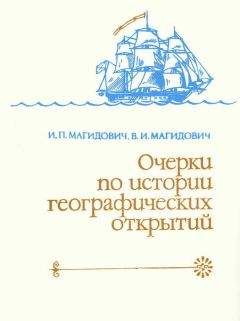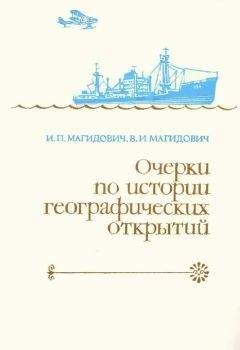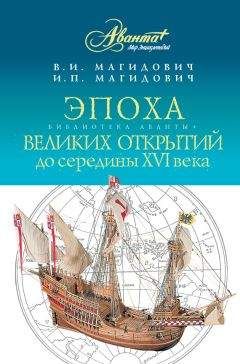Николай Плавильщиков - Гомункулус
По части кипячения и обеззараживания всяких настоев и бульонов Пастер был большим знатоком. Он налил в колбочку питательного бульона, прокипятил его, потом оттянул горлышко колбы в длинную трубку и запаял кончик. С такой колбой Пастер вышел во двор и там обломил запаянный кончик. Воздух ворвался в колбу и внес в нее микробов и их споры. Тогда Пастер снова запаял колбу.
Попавшие в ловушку микробы вскоре размножились, и на поверхности бульона появились мутные облачка — тучи микробов.
Этого мало. Пастер захотел выяснить: в каком воздухе микробов больше. С колбами в руках он лазил на высокие горы, поднимался даже на ледники Монблана, вяз в болотах, бродил по берегу моря, спотыкался о корни и пни в лесу, основательно изучил парижские помойки. Всюду он открывал и вновь запаивал колбы и вел самый тщательный подсчет уловленным микробам. Добычи было где больше, где меньше, но в общем микробы встречались везде. Только ледники гор оказались очень бедны ими: здесь Пастеру не всегда удавалось заманить в колбу хоть одного-единственного микробика.
Итак, воздух богат микробами.
Тут Пастер вспомнил опыт Гей-Люссака с ртутью. Он повторил его, и в пробирке появились микробы. Пропустил в пробирку прокаленный воздух — та же история.
— Гм… — нахмурился Пастер. — Здесь что-то не так!
Остроумный исследователь разрешил и эту задачу:
— Да они просто прилипают к ртути, а с нее попадают в трубку!
И правда, поверхность ртути была для микробов тем же, чем липкая бумага для мух: они сотнями прилипали к ней.
Луи Пастер (1822–1895).
Пастер взял колбу с прогретым воздухом и прокипяченным настоем. Бросил в нее капельку ртути: раз, два — и появились микробы. Тогда он прокалил и капельку ртути: ни одного микроба в колбе не оказалось.
Тайна опытов Гей-Люссака была раскрыта.
Однако до решения задачи было еще далеко. Мало доказать, что микробы кишат в воздухе, мало доказать, что они прилипают к ртути. Нужно еще доказать, что именно они-то, попадая в колбу из воздуха, и вводят наблюдателя в заблуждение.
«Прогрей воздух, убей в нем микробов — вот самый простой совет».
Нет, совет этот плох. Ведь еще Нидгэм утверждал, что прогретый воздух не годится для жизни, а потому в нем и не может наблюдаться самозарождение. Нужно брать воздух непрогретый, и в то же время…
Колба Пастера.
«Что сделать? Как загородить микробам дорогу в колбу?»
Есть люди, которые умеют давать очень хорошие советы. Пастеру повезло: он встретился именно с таким человеком. Результат встречи — знаменитая «пастеровская колба».
Горлышко этой колбы вытянуто в длинную трубочку, изогнутую на манер шеи лебедя. Воздух проходит через трубочку, но микробы застревают в изгибе. Колба открыта, в нее все время свободно проникает воздух, но ни одного микроба в ней не заводится. Зато стоит лишь обломить длинное горлышко — и в колбе появляются обитатели.
— Видите? — ликовал Пастер. — Видите? Нет самозарождения! Здесь, в колбе, есть все: и питательный бульон, и воздух. Где же ваша производящая сила? Где самозарождение? Покажите мне его.
— Покажем! — вдруг раздалось в ответ.
Это сказал Пуше с приятелями. А приятели его были Жоли и Мюссе, два профессора-натуралиста из Тулузы.
— Мы покажем и докажем…
Пуше, Жоли и Мюссе насовали во все карманы колб (Пуше даже сшил себе особый костюм, состоявший почти из одних карманов) и поехали в горы. Они не пошли на помойки, воздух которых изобилует микробами. Нет, это уж слишком просто.
— Пастер утверждает, что в воздухе ледников микробов совсем мало? Вот тут-то мы ему и покажем.
В колбы налит питательный раствор — прокипяченный сенной настой, пастеровские горлышки запаяны. Все проделано с такой же точностью и аккуратностью, как у Пастера. Все то же самое, только вместо бульона — сенной настой.
И вот в их колбах всегда появлялись микробы. Даже гора Маладетта в Пиренеях и та дала Пуше уйму микробов. А Маладетта выше того ледника на Монблане, на котором побывал Пастер.
— Что вы на это скажете? — скромно вопрошал Пуше, внутренне торжествуя. — Есть самозарождение или нет?
Сенной настой испортил дело Пастеру.
— Почему именно сенной настой? — ломал он себе голову.
Пастер был глубоко убежден в своей правоте: самозарождения нет.
Он был не менее убежден в неточности опытов Пуше и его друзей. Но он был горяч и нетерпелив, и ему не хотелось возиться еще и с сенным настоем.
«Пусть комиссия разбирается, это ее дело, — решил он. — Пуше напутал, вот эту путаницу комиссия и найдет…»
Пастер потребовал, чтобы Академия наук назначила комиссию для рассмотрения опытов его и Пуше.
Комиссия была назначена. В ее присутствии Пастер и Пуше должны были проделать свои опыты.
Пуше, очевидно, не был уверен в точности своих исследований, и его смутило странно настойчивое требование Пастера о специальной комиссии. Говорят, что комиссия явно придиралась к Пуше, что заранее было решено провалить его. Так или иначе, но Пуше отказался от комиссии. Пастер торжествовал.
Комиссия признала опыты Пастера вполне убедительными. Но не будет ли новых возражений?
Через десять лет английский врач Бастиан заинтересовался сенным настоем. Его опыты, поставленные с изумительной точностью и осторожностью, дали положительный результат: в сенном настое появлялись микробы.
Всего десять лет прошло со времени великой битвы. Неужели снова спорить, снова кипятить настои и лазить по горам и помойкам?
Только теперь Пастер спохватился:
— Я думал, что Пуше просто напутал, а выходит не так… И все же это путаница. Только другая.
Пастер должен был распутать это дело. Ведь на карте стояло его имя.
И он распутал его.
Пуше ошибся, был неправ и Бастиан: самозарождения в сенном настое не было. Микробы попадали в настой не из воздуха, они были на том сене, из которого приготовлялся настой.
Есть особый микроб — так называемая «сенная палочка». Эти «сенные палочки», а точнее их споры, отличаются удивительной живучестью. Кипячение при температуре в 100 градусов не убивает их, и колба с прокипяченным сенным настоем кишит зародышами этих микробов. Пока колба запаяна, микробы не развиваются: им нужен кислород. Стоит обломить горлышко колбы, как туда врывается воздух, и микробы начинают быстро размножаться.
Вот что происходило в колбах Пуше, вот что произошло в колбах Бастиана.
Пастер разыскал «сенную палочку» и придумал, как убить этого живучего микроба. Нужно кипятить настой при 120 градусах. Этой температуры не получишь в открытой посуде, нужна посуда закрытая, нужно повышенное давление. Вот тогда-то, при кипячении в течение двадцати минут, при температуре в 120 градусов, микробы и их споры гибнут.
Пастер проделал все это, и никаких микробов в сенном настое не появилось.
Возражение Бастиана было опровергнуто.
Теперь Пастер мог спокойно сказать:
— Премия моя!
И он получил ее.
Пастер и десять лет назад сказал правду: нет самозарождения в гниющих настоях. Но тогда он только угадал. Теперь он и доказал это.
Спор, длившийся сотни лет, окончился.
Великий закройщик
1
Мудрено лечить человека, не зная толком, как устроено его тело. А изучать анатомию на трупах не всегда было можно. Во времена, еще более далекие, чем те, о которых будет идти речь, вскрытие трупов было преопасным занятием: хорошо, если смельчак-анатом отделывался тюрьмой — чаще он рисковал жизнью.
«Что ж! — рассуждали врачи. — Нельзя вскрывать человека — займемся животными».
Врачи принялись вскрывать животных, конечно — млекопитающих. Сходство строения их тела со строением тела человека бросалось в глаза. Анатомы не делали из этого выводов о родстве, они не задумывались над историей развития животного мира, а если кто и делал это, то молчал, думая «про себя». Врачей интересовала лишь практическая сторона изучения анатомии крупных млекопитающих.
Конечно, далеко не все увиденное можно было применить к человеку, но исследователи этим мало смущались. Знаменитый врач Гален нередко сильно ошибался, применяя свои открытия, сделанные на животных, к человеку. Но… что же оставалось делать этим беднягам? Лучше знать немножко, чем ничего, лучше ошибаться иногда, чем работать с завязанными глазами.
Была и еще одна хорошая сторона в изучении врачами анатомии животных: строение животных становилось все более известным. В те давние времена еще не было специалистов-зоологов; врач — вот кто замещал их. И не будь врачи столь любознательны, не будь они по роду своей профессии обязаны знакомиться и с животными, долго бы еще зоология ограничивалась только собиранием всяких сказок.