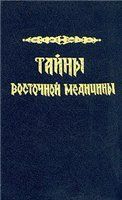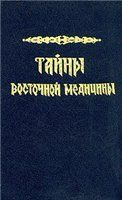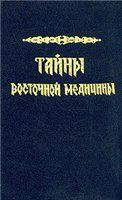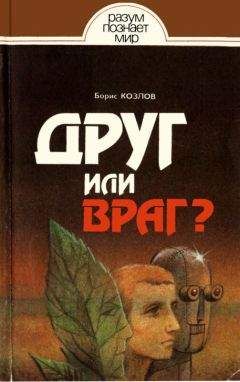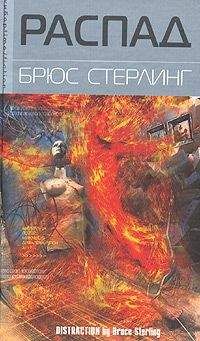Анатолий Козлов - Понятие преступления
Во всем этом видится несколько сложностей. Во-первых, Ж. Пиаже базирует свои выводы на им же заложенном противоречии: с одной стороны, формальная логика – реальность мышления («аксиоматика равновесия мышления»), с другой – наука, формулирующая законы целостностей. Мы склонны согласиться с таким положением вещей, поскольку считаем, что здесь противоречие только внешнее, за которым скрывается точный смысл формальной логики. Ведь достаточно давно стало очевидным, что ребенок, воспитанный стаей животных вне зависимости от характера стаи (обезьяны, волки, кенгуру), не способен так же опредмечивать окружающий мир, как обычные ребята – его сверстники. Из этого следует, что человек познает окружающий мир, опредмечивает его через опыт (за исключением заложенного генетикой): родители говорят ребенку: вот это ель, посмотри, иголочки маленькие и твердые, а вот лиственница, у нее тоже иголки маленькие, но очень мягкие, а вот сосна, у нее иголки длинные и т. д. Здесь уже формализуется представление ребенка об окружающем мире, опредмечивание окружающего мира становится более точным. При этом, конечно же, мы имеем дело с формальной логикой, поскольку все обучение ребенка опирается на понятийный аппарат, на его разработку. Вкладывая постепенно в сознание ребенка те или иные понятия и закрепляя их в нем, помогая ребенку более точно опредмечивать окружающий мир, мы тем самым превращаем формальную логику в способ существования мышления («аксиоматику равновесия мышления»). Именно поэтому формальная логика и выступает в двух ипостасях: как наука, создающая законы точного и строгого мышления, и как способ мышления. И если бы автор принял именно такой подход, он был бы абсолютно прав. Однако Ж. Пиаже, похоже, не это имел в виду, поскольку логическому способу мышления он противопоставил науку психологии мышления, параллельно предложив науку формальной логики, и тем самым создал ситуацию обслуживания логического способа мышления психологией мышления и формальной логикой, не разграничив последние и заложив реальное противоречие.
Думается, во-вторых, глубочайшее заблуждение Ж. Пиаже кроется прежде всего в том, что он сузил психологию мышления до логистики, а более правильно было бы соотнести логистику с формальной логикой. Вместе с тем, выделив психологию мышления как науку, автор – несомненный сторонник формально-логического анализа – нарушает правила формальной логики: ведь психология – наука о психике, последняя невозможна без мышления, отсюда психология мышления как наука о психике мышления явно заключает в себе тавтологию, чего быть не должно. Кроме того, вполне понятны причины «обслуживания» аксиоматики психологией мышления, поскольку автору было важно противопоставить формальную логику и мышление: «логика является зеркалом мышления, а не наоборот».[83] Скорее всего, ни Ж. Пиаже, ни другие сторонники рассмотрения формальной логики и мышления с позиций их соотношения как отражаемого и зеркала не правы; указанные категории нельзя рассматривать с позиций отражаемого и отражения, между ними иное соотношение: на уровне доктринальном одна из них разрабатывает правила точного и строгого мышления, а вторая – структуру и динамику мышления, его механизм; при этом первая лишь обслуживает вторую, помогая ей разобраться в предметах, ею рассматриваемых, в их соотношении, классификациях и группировках; на реальном уровне логистика – один из способов существования мышления.
Именно поэтому и только в указанных пределах формальная логика не просто может, а должна стать фундаментом мышления. Не являются исключением из данного правила и экспериментальные науки, каждая из которых возникает на основе уже чего-то существующего на формально-логической основе; разумеется, при этом возникают и новые категории, новые явления, понять и осмыслить которые (их сущность, соотношение между собой и с ранее существовавшими явлениями, их классификацию и группировки) помогает также формальная логика. Таким образом, формальная логика – фундамент строгого мышления, что очень важно для психологии, которая представляла и пока представляет собой «броуновское движение» отдельных элементов, упорядочить которое поможет только формальная логика.
«Мышление в настоящее время – объект логического анализа. При этом логический анализ мышления, как и логический анализ знаний, имеет два направления: 1) разработку понятий, описывающих процессы мышления, и логической техники, с помощью которой можно осуществлять проверку и построения их операциональной структуры; 2) решение внешних задач с помощью этих понятий и техники».[84]
Сторонников жесткого формально-логического подхода к обособлению субъективного и объективного принято обвинять в интуитивизме, неопозитивизме и тому подобных «шумах».[85] Тем не менее именно они пытаются более глубоко разобраться в психических процессах, понять их структуру, разграничить субъективное и объективное с тем, чтобы глубже понять связь между ними, чего нельзя достигнуть при смешении субъективного и объективного в одну массу, при якобы научном объединении психической и физической деятельности под лозунгом невозможности существования психики вне окружающей среды и физической деятельности вне психики. Противники формально-логического подхода забывают об одной важной вещи: субъективное имеет собственную энергию (примером тому служат гипноз, телекинез) и уже в силу этого должно быть самостоятельно изучено, поскольку создает изменения в окружающем мире без «физического» вмешательства в него.
Вообще непонятно, что же отпугивает основную массу психологов и социологов в формально-логическом исследовании субъективного, ведь такой подход вовсе не исключает последующего изучения окружающей среды и их взаимного влияния друг на друга. Скорее всего, неприятие связано с тем, что формальная логика требует опоры на определенный фундамент, не терпит разбросанности и размытости мышления, не позволяет создавать теории безбазисные, основанные только на представлениях исследователя. Да, действительно, формальная логика «вяжет» исследователя по рукам и ногам, но только для того, чтобы мозг его стремился к истине, чего нельзя достичь без фундамента.
Разумеется, можно сгладить острые углы и сказать, что в разноголосице мнений нет противоречий, позиции лишь дополняют друг друга.[86] Однако такое возможно только тогда, когда какое-то явление (понятие о нем) делится на структурные элементы (классифицируется) по различным основаниям и каждая из классификаций дополняет другие, создавая в единстве общий обогащенный образ явления. Вот этого-то и не происходит: все авторы пытаются классифицировать признаки личности по одному основанию – с точки зрения социально-психологических качеств личности и тем не менее не находят единого подхода. Особенно заметно это при рассмотрении отдельных элементов психики, их связи между собой и механизма взаимодействия, где не складывается ясной и четкой картины: потребностей, интересов, мотивов, целей, сознания, воли, принятия решения, направленности, ценности, ценностных ориентаций, социальных установок и т. д., что в большей степени интересует юриспруденцию. Что они собой представляют, как взаимодействуют друг с другом, какие системы образуют – все эти вопросы практически невозможно решить, автоматически придерживаясь господствующих позиций. Ничуть не лучше ситуация в теории уголовного права и криминологии.
Подраздел 2
Объективное и субъективное: динамика сосуществования
Глава 1
Окружающий мир как система ценностей
Прежде всего хотелось бы разобраться в вопросе о том, как взаимодействуют окружающий мир и внутренний мир человека; с чего все начинается и чем завершается. Разумеется, все психологи пишут и о ценностных ориентациях, и об установках, о влиянии окружающей среды на психику, о познании. При этом остается неясным, как соотносятся данные факторы с мотивационной сферой (входят ли они в нее как элементы или находятся вне ее пределов; констатация того, что ценностные ориентации образуются из столкновения системы потребностей с системами жизненных ситуаций,[87] проблемы не разрешает); как соотносятся ценностные ориентации и установки друг с другом, как соотносятся они с системой ценностей; является ли система ценностей субъективной (относящейся к психике) или объективной (относящейся к окружающему миру) категорией.
Коль скоро речь идет о взаимовлиянии окружающей среды и психики, начнем с первой. Представляется аксиоматичным, что среда обитания человека – это система тех или иных ценностей, которые окружают человека и помогают в его жизнедеятельности. Но, оказывается, не все так просто. «В свою очередь имеется иерархия и в системе ценностей. Вершину ее составляет “жизненный идеал” – социально-политический и нравственный образ желаемого будущего».[88] Сразу видно, что аксиоматичность представления о системе ценностей как объективной категории исчезает, поскольку ценность объявляется «жизненным идеалом», образом желаемого будущего и, следовательно, субъективной категорией. Ничуть не лучше обстоит дело и в уголовном праве. «Ценность зависит не от сознания и воли субъекта ценности, а, во-первых, от имманентных свойств объекта (явления, процесса и т. д.) и, во-вторых, от исторически обусловленных потребностей и интересов субъекта».[89] Здесь также ощущается стремление Ю. А. Демидова придать ценности объективный характер («зависит от имманентных свойств явления») и в то же время низвести ее до субъективной категории («зависит от потребностей и интересов субъекта»). При этом автор ненавязчиво оторвал потребности и интересы субъекта от его сознания и воли («зависит не от сознания и воли, а от… потребностей и интересов субъекта»), тем самым косвенно признав неосознанный характер потребностей и интересов субъекта, что в принципе неприемлемо.