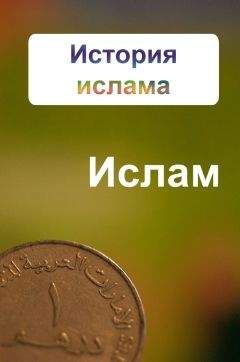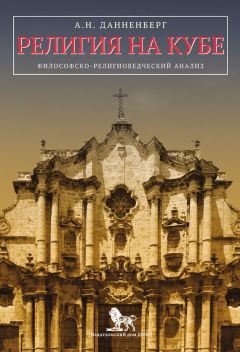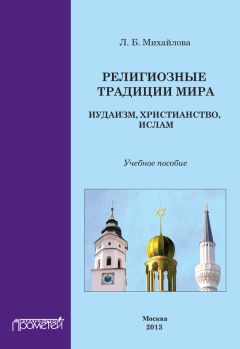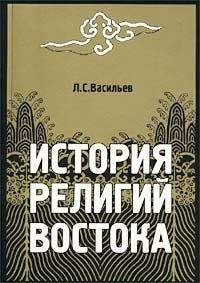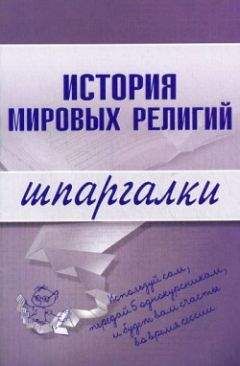А. Тер-Акопов - Мировые религии о преступлении и наказании
В литературе обоснованно отмечается, что «разум-мудрость-сила» (Ис. 33. 22; Иер. 10. 12) – это не только три свойства, но и три функции. Суд, судья – олицетворение мудрости, законодатель – разума, царь – силы [398] . Следовательно, суд Божий трактуется как истина, справедливость, милость, мудрость и спасение.
Но институциональное сходство обязывает суд права тянуться за судом правды, как за идеалом. Неправедный светский суд сам может быть оценен как грех, ибо сказано в Евангелии: «каким судом судите, таким будете судимы: и какою мерою меряете, такою и вам будут мерить» (Мф. 7. 1); «твоими устами буду судить тебя» (Лк. 19. 22) [399] . Как видно, первая часть этого предложения – о суде человеческом, вторая – о Суде Божием, а весь смысл слов Иисуса – в приведении человеческого суда в соответствие с Божиим. Однако все же именно этот фразеологизм в его контексте скорее относится к межличностным отношениям и характеризуется преимущественно как гуманитарное, а не судебно-правовое начало. Во всяком случае, адресовать эти слова коллегии присяжных заседателей, участвующих в отправлении правосудия, некорректно и неразумно.
Обоснование этой позиции тоже можно найти в неисчерпаемых христианских источниках: «Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну» (Рим. 14. 10–13); «…каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих; от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди; я и сам не сужу о себе. Ибо, хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь…» (1 Кор. 4. 1–4).
Под судом (мирским) в Писании понимается не осуждение ближнего (на бытовом уровне), но суд по закону, производимый людьми, к тому призванными, – судьями. Эти люди «судят грехи только явные, направленные против порядка гражданского или благосостояния общественного. Грехов внутренних они не имеют права и силы судить» [400] .
Как видно, христианские заповеди, включая положения о суде, действительно многозначны, глубоки, фразеологичны и в большинстве своем находятся за пределами пространственно-временных координат, а также современных терминологий, понятий и даже представлений о мире и природе.
«Евангельские наставления не предписания, но указание идеала» [401] . Библейские персонажи зачастую говорили, используя для доходчивости тот набор иносказательных выражений, который бытовал в ту историческую эпоху и первозданный смысл которых постоянно познается либо отчасти даже утрачен. Кроме того, следует учитывать неточности перевода с древнееврейского и греческого языков, отсутствие подчас в нашем языке слов, подходящих для полной передачи соответствующего значения. Поэтому заповеди в рассматриваемой сфере следует истолковывать исходя и из контекста, т. е. из общего смысла текста, учения, в том числе с учетом русского канонического перевода из греческого перевода 70 толковников [402] .
В этой связи следует учитывать, что понятия «судья» и «судить» во многих случаях в христианских источниках лишь частично совпадают с принятыми сегодня значениями, что судьи (одновременно и начальники, и военачальники в особые периоды), о которых повествует, в частности, Книга Судей, – несколько иные лица, чем судьи в современном понимании.
Действительно, в Библии говорится о многих и разных судах, отличавшихся по своему значению от светского суда. Есть суд над грехом на Голгофе; суд верующего ежедневно над самим собой, после того, как верующий становится спасенным. Есть Судилище Христово, где будет суд над христианином, когда он уйдет к Господу; суд у Великого Белого Престола, где Господь будет судить неспасенных умерших. Это четыре суда.
Кроме того, также упоминается о Божьем суде евреев в течение семидесятой недели Даниила – Великая скорбь. А когда Христос вернется, Он будет судить народы (Мф. 25). Еще в Библии сказано в Первом послании апостола Павла к Коринфянам (6. 3): «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов?» Но все равно, это не все упоминания о судах, потому что как минимум первый суд проводил Бог в отношении Адама и Евы. Кроме того, ряд библейских притч посвящен многовековой деятельности конкретных судей: более или менее успешной.
Далее уместно констатировать, что светский суд сам по себе, в отличие от суда Божественного, не в состоянии быть идеалом и, в частности, установить абсолютную истину. Это и не его задача. «Приближение к премудрости Божией не может заменить истин, раскрытых Им Самим» [403] . В христианских источниках периодически подчеркивается контраст между Божьим Судом и человеческим: «Не сделаю по ярости гнева Моего…, ибо Я – Бог, а не человек» (Ос. 11. 9). Даже в нормативистском плане доказывание истины по рассматриваемым судами делам ныне исключено из задач административного, гражданского, уголовного, арбитражного процессов.
Однако для современных теории и практики, для понимания истины и ее абсолюта интересно выстроить соотношение базовых христианских категорий, представленных не произвольно, а в определенном детерминистическом порядке. «Быть в вере, в Боге», «быть во Христе» значит быть в истине (например, «ходил в истине» (2 Ин. 1. 4), «не устоял в истине» (Ин. 8. 44). Быть в повиновении Богу означает также быть в подчинении истине.
Истина – свобода – свобода воли – переведение Истины извне в себя («честный и мыслит о честном» – Исайя. 32. 8). Далее анализируемая логическая цепочка продолжается следующим образом: «вписание закона на скрижалях сердца» («вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах напишу его» – Иер. 31. 33) – ответственность – Суд (истинный, т. е. милостивый, искупительный, спасительный). Но «для чего моей свободе быть судимой чужой совестью?» (Кор. 10. 29).
«Будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобресть» (1 Кор. 9. 17–19).
Как видно, круг замкнулся отнюдь не софистически. Представленный логический порядок соотношений важных для христианства и права категорий позволяет сам по себе высказать несколько положений в контексте излагаемых оговорок по теме, сквозь призму сущего и должного.
Ощущение, чувство свободы, но не за счет произвола, не ценой подавления других людей, дает убеждение человеку, что он существует как личность. Религия Христа (в отличие от Ветхого Завета, где жертва не искупала греха, а исполнение закона никого не спасало) не есть уже религия жертвы и закона, а религия любви и свободы [404] . Поэтому философию свободы Н. Бердяев определял как философию богочеловечества [405] .
К сожалению, современное состояние свободы не терпит строгой морали как разумного ограничителя себя, а этика подменяется этикетом. И понимание этого есть не только в России, но и у представителей Запада, например у Фолкнера: «…Мы отказались от смысла, который наши отцы вкладывали в слова „свобода“ и „независимость“… смысла, превращенного нами в пустой звук. Свободу мы подменили патентом на любое действие, лишь бы оно освящалось выхолощенным словом „свобода“». [406] А дальше его мысль продолжает замечательный писатель В. Распутин о том, что в этот самый момент исчезла так же истина. Она отказалась от нас, повернулась спиной с тем, чтобы, может быть, вернуться, когда с нами что-нибудь случится. Вернуться и научить нас уважать истину и заставить заплатить любую цену, чтобы вновь обрести истину и хранить ее. «Истина – это длинная, чистая и четкая, неоспоримая, прямая и сверкающая полоса, по одну сторону которой черное – это черное, а по другую белое – это белое…» [407]
Итак, современная интерпретация такой «свободы» становится уделом не всех и каждого, а людей не бедных, т. е. она означает социальное и правовое неравенство. Данное обстоятельство многократно отмечал Ф. М. Достоевский 150 лет назад: права-то дали, а средств насытить потребности еще не указали. Так и возникает ситуация, именуемая писателем «не по карману билет» [408] .
И ограничителями такой «свободы» в условиях минимизации духовно-нравственных воздействий способны выступать право и суд. «Присущая праву всеобщая равная мера – это именно равная мера свободы и справедливости, а свобода и справедливость невозможны вне и без равенства (общей равной меры)» [409] .
Ни Собор, ни Православная церковь не ставят под сомнение ценности прав человека. Их намерение – дополнить концепцию прав человека важным измерением: они должны осуществляться в системе нравственных координат. Потому что демонтаж этой системы опасен для человеческой цивилизации… «Если мы хотим иметь жизнеспособную цивилизацию, то должны реализовывать человеческие права в рамках нравственной ответственности…» [410]
Церкви вторят авторитетные представители науки [411] : «Религиозное чувство, в какой бы форме оно ни было, заполняет определенные лакуны в духовном мире человека, которые не в состоянии заполнить никакие рациональные знания. Так уж создан человек, таким он образовался в нашем мире» [412] . Справедливости ради надо сказать, что представители не все и науки не всей [413] .