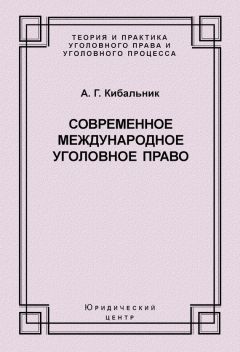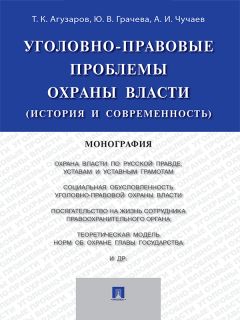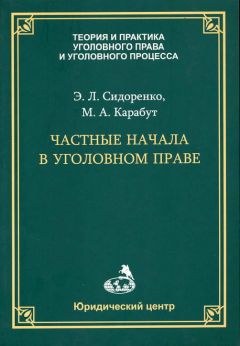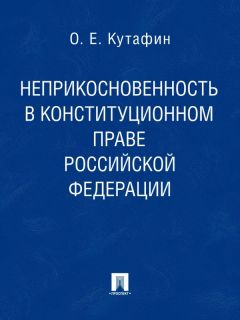Тамерлан Агузаров - Охрана власти в уголовном праве России (de lege lata и de lege ferenda)
Таким образом, неприкосновенность личности государственного или общественного деятеля в первую очередь преследует цель нормального функционирования политической системы государства, основные направления деятельности которой отражены в правовом статусе соответствующего лица. О. Е. Кутафин пишет: «Применительно к власти неприкосновенность – одна из важнейших гарантий статуса официальных лиц, выполнения ими своих обязанностей…»[71]
Неприкосновенность государственного или общественного деятеля в смысле ст. 277 УК РФ распространяется на его жизнь и здоровье[72].
Характеристика потерпевшего в законе не конкретизирована, в указанной статье УК РФ использованы родовые понятия: государственный или общественный деятель. Их определения в действующем законодательстве РФ не встречаются. В литературе чаще всего приводится перечень руководителей страны и должностных лиц высших органов законодательной, исполнительной и судебной власти, а также прокуратуры РФ и ее субъектов. К их числу, как правило, относят: Президента РФ, Председателя и членов Правительства РФ, депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ, председателей Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, Генерального прокурора РФ, руководителей субъектов РФ, руководителей федеральных органов исполнительной власти и лиц, занимающих аналогичные должности субъектов Российской Федерации и др.
Так, приговором Верховного Суда Республики Дагестан М. осужден по ст. 277 УК РФ за посягательство на жизнь председателя территориальной избирательной комиссии. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ признала приговор законным и обоснованным[73]; М. приговором Московского городского суда осужден за посягательство на жизнь депутата Государственной Думы К.[74]
Общественными деятелями признаются лица, состоящие в руководстве или активно участвующие в работе политических партий, общественных движений и объединений, фондов, профессиональных и иных союзов на федеральном или региональном уровнях[75].
А. Н. Игнатов в круг указанных лиц включал и глав органов местного самоуправления[76], тогда как А. В. Наумов специально оговаривает: «Государственным деятелем может быть признано лицо, занимающее достаточно высокий пост в государстве»[77]. Это мнение кажется более предпочтительным.
Е. А. Иванченко[78] при определении потерпевшего предлагает исходить из Федерального закона РФ от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»[79] и Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»[80]. Эта рекомендация не решит проблему установления круга лиц, признаваемых потерпевшими по ст. 277 УК РФ; ее использование лишь даст возможность определить виды соответствующих служб в Российской Федерации и не более того.
Многие авторы без каких-либо оговорок относят к потерпевшим судей (некоторые, правда, говорят только о федеральных судьях, тем самым, надо полагать, исключают из их числа мировых судей; другие называют только «чинов высшей судебной власти»[81]). На наш взгляд, при признании судьи потерпевшим в преступлении, предусмотренном ст. 277 УК РФ, во-первых, надо иметь в виду, что Уголовный кодекс содержит специальную норму об ответственность за посягательство на его жизнь (ст. 295 УК РФ). Во-вторых, согласно п. 3 ст. 3 Закона РФ от 25 июня 1992 г. № 3132–1 «О статусе судей в Российской Федерации» судья не вправе «принадлежать к политическим партиям, материально поддерживать указанные партии и принимать участие в их политических акциях и иной политической деятельности»[82]. Уголовный закон охраняет лишь деятельность, не противоречащую закону. Следовательно, судьи как таковые не могут признаваться потерпевшими в рассматриваемом преступлении, посягательство на их жизнь в зависимости от целей и мотивов деяния охватывается ст. 105 или 295 УК РФ. Государственной деятельностью занимаются лишь руководители высших судебных органов страны и судов субъектов Российской Федерации, в частности, определяя судебную политику, например, в сфере гражданского (арбитражного) или уголовного судопроизводства. Посягательство на их жизнь в связи с данной деятельностью подпадает под признаки преступления, предусмотренного ст. 277 УК РФ.
Противоречивые суждения высказаны в литературе относительно признания потерпевшим государственного или общественного деятеля зарубежных стран. Так, одни авторы утверждают, что «объектом рассматриваемого преступления может быть и жизнь иностранного государственного или общественного деятеля в связи с его государственной или общественной деятельностью, направленной на укрепление дружеских связей и отношений России с ее субъектами»[83]. Другие, наоборот, полагают «… целесообразным включить в УК РФ специальную статью об ответственности за посягательство на жизнь государственного деятеля иностранного государства»[84], тем самым считая, что указанная категория лиц не охраняется нормой, предусмотренной ст. 277 УК РФ.
По нашему же мнению, обе позиции необоснованны. Посягательство на жизнь иностранного государственного или общественного деятеля не затрагивает основы конституционного строя и безопасности Российской Федерации, а направлено на мир и безопасность человечества. Именно поэтому законодатель, во-первых, уже предусмотрел уголовную ответственность за нападение на представителя иностранного государства или сотрудника международной организации, пользующегося международной защитой (ст. 360 УК РФ), во-вторых, включил соответствующую норму в гл. 34 разд. XII «Преступления против мира и безопасности человечества» УК РФ. Авторами, предлагающими дополнить УК РФ соответствующей нормой, эти обстоятельства, к сожалению, не учитываются. Так, формулируя проект ст. 2772 УК РФ, А. В. Седых указывает: «Убийство представителя иностранного государства, совершенное в целях прекращения его деятельности или осложнения международных отношений…»[85]
Объективная сторона преступления характеризуется посягательством на жизнь государственного или общественного деятеля. Термин «посягательство» вместо веками устоявшегося понятия убийства впервые использовано в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1962 г.[86], в соответствии с которым Уголовный кодекс РСФСР дополнен ст. 1912, предусматривающей ответственность за посягательство на жизнь работника милиции или народного дружинника в связи с их служебной или общественной деятельностью по охране общественного порядка[87]. Такой шаг законодателя в теории уголовного права вызвал целую дискуссию, суть которой сводится к двум основным моментам: во-первых, что понимать под посягательством на жизнь; во-вторых, обоснованность применения самого термина. По этому поводу Я. М. Брайнин даже заметил: «Неопределенность термина “посягательство”… породила целую литературу… вопроса»[88].
Одна группа ученых исходит из буквального значения слова «посягательство», означающего попытку (незаконную или осуждаемую) сделать что-нибудь, распорядиться чем-нибудь, получить что-нибудь[89], делая на этом основании вывод о том, что закон под посягательством имеет в виду только покушение на убийство[90]. Например, Э. Ф. Побегайло высказал мнение, что «по своей юридической природе “посягательство на жизнь”… является покушением на убийство, выделенным законодателем в особый состав в целях общего предупреждения»[91]. Аналогичную позицию занимал С. В. Бородин[92]. А. А. Герцензон, наоборот, полагал, что рассматриваемое понятие в уголовном законе тождественно оконченному преступлению, а не покушению на преступление[93]. Несколько неопределенно трактовал понятие посягательства О. Ф. Шишов. Он писал: «“Преступное посягательство” в ряде случаев может включать в себя и действие, и последствие преступного деяния, в ряде случаев – только действие… и, наконец, покушение на совершение того или иного преступления»[94].
Другая группа ученых, пытаясь обосновать отказ от привычного термина «убийство» и замены его термином «посягательство», считают, что законодатель имел в виду нечто большее, чем просто убийство или покушение на него. Например, П. Ф. Гришаев и М. П. Журавлев[95], П. С. Елизаров[96], помимо указанного, включали в него причинение тяжких телесных повреждений, опасных для жизни; С. И. Дементьев[97] – причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего. Г. Ф. Поленов писал: «Объективную сторону посягательства на жизнь… образуют как действия, которые привели к наступлению смерти… так и действия, которые обусловили возможность наступления смерти»[98]. Е. А. Сухарев даже высказал мнение, что посягательством на жизнь следует признавать насильственные действия, направленные на причинение любого вреда личности работника милиции или народного дружинника, если этим заведомо для виновного создается реальная возможность наступления смерти[99]. Широкий разброс мнений о содержании термина «посягательство на жизнь», как отмечал П. П. Осипов, в немалой степени обусловлен тем, что авторы пытались определить его объем только исходя из характеристики объективной стороны преступления, без учета субъективных признаков[100].